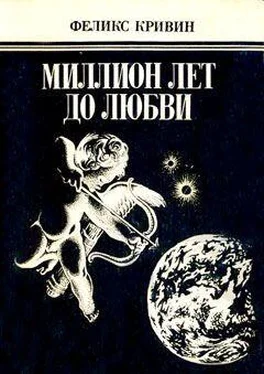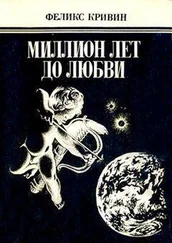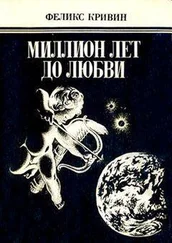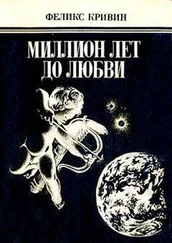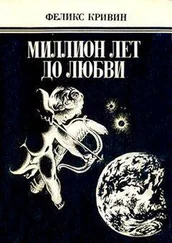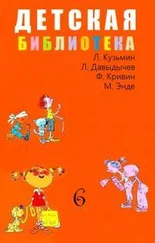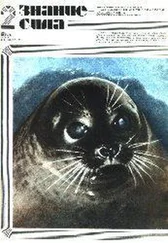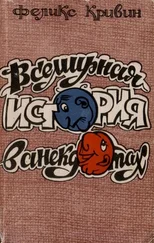– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! – взревел Змей и бросился на стоящего перед ним гурона. Отставной старшина не ожидал подобного натиска. Он не узнавал в Кузьминиче хорошо знакомого посетителя тира. Конечно, если ружье висит на стене, оно должно выстрелить, но не разносить же вдребезги все вокруг…
Так началась эта война. В сущности, из-за мелочи, как это нередко бывает.
Городок Подгорск привык к роли своеобразного центра киноискусства. Милиция особенно внимательно следила за порядком, понимая, что может попасть на экран, продавцы в магазинах были осмотрительно вежливы, работники общепита привыкли к перевыполнению плана по шницелям, а работники быткомбината – к расширенным бытовым комбинациям. Никогда еще Подгорск так часто не разговаривал со столицей и между ними не было таких сугубо личных, интимных разговоров. Словно это был один город, разделенный на две части, тревожащиеся и тоскующие одна без другой и не умеющие сказать двух слов без «люблю» и «целую». Столица и Подгорск любили и целовали друг друга, как еще никогда не любили и не целовали другие, даже более близкие города.
Особеппо способствовала превращению Подгорска в киногород массовка. Свои же, такие обычные и с детства знакомые люди, соседи, сослуживцы, вдруг стали киноартистами, разъезжали на студийных автобусах, околачивались на съемочных площадках и рассуждали о дублях и кадрах так, словно всю жизнь больше ни о чем не разговаривали. С другой стороны, киносъемщики обеих картин стали своими людьми в Подгорске. Правда, они жили в гостинице, питались в ресторане и говорили: «У нас в столице», – но уже близилось время, когда им предстояло слиться с коренным населением, зажить по-домашнему и говорить с гордостью: «У нас в Подгорске».
Менялись люди, менялся город, менялись его окрестности. В окрестностях появились сказочные, причудливо раскрашенные деревеньки и грубо сколоченные селения на индейский манер. Поговаривали, что в эти отдаленные предместья будет налажено автобусное сообщение, но пока таксисты, отправляясь «к индейцам» или «к Дюймовочке», брали плату за проезд в оба конца.
Происходило стирание граней между городом и кино, врастание в город кино, и Иван Артурович, как человек, по сравнению со своим коллективом, более простой и неизощренной организации, а также, имея в качестве режиссера женщину, чувствовавший себя как бы главой семейства, понимал, что скоро для того, чтобы руководить картиной, ему придется руководить целым городом. Нужно было отделить науку от фантастики, «Дюймовочку» от «Большого Змея», своих людей от местного населения, свои сюжеты от не своих, свои идеи от не своих, а главное – свои от не своих материальные средства.
Одним словом, группа «Дюймовочки» переезжала на новые декорации. Артурыч увозил ее в Приморск, поближе к морю, подальше от этой скандинавско-индейской путаницы. И это лишний раз подчеркивает, как сложна и беспокойна работа администрации, сколько на нее уходит нервов не только администрации, но и всего творческого коллектива. Администрация – это огромный маховик, способный придать механизму гигантскую энергию, если их соединить приводными ремнями… А где приводные ремни? Уже прибыли приводные ремни? Нет, не прибыли. Пока не отгрузили…
Столяры-декораторы с болью покидали избушку, оставляя ее безутешным индейцам: а вдруг им понадобится сделать вигвам? По этому поводу Арту-рыч мог бы сказать, что белка, покидая дерево, оставляет орехи тем, кто придет после нее. Но, как лицо подотчетное, он не одобрял неразумного поведения белки. Человек тем и отличается от белки, что он лицо подотчетное…
Федор Иванович принес Татьяне Сергеевне шеститомник Купера, с которым прежде не расставался, а теперь решил расстаться навсегда.
– Это вам. От меня. Авось пригодится.
Так он сказал. Очень коротко. Умный человек говорит всегда больше, чем произносит, а неумный произносит больше, чем говорит.
– Что вы, Федор Иванович! Зачем мне Купер? – запротестовала Татьяна Сергеевна и уточнила: – Фенимор. Зачем мне Купер Фенимор, вернее, Фенимор Купер?
– Он пригодится, Татьяна Сергеевна! Поверьте, он пригодится!
– Но ведь у меня же сказка Андерсена!
– Андерсен не сможет без Купера. И Купер не сможет без Андерсена… – говорил Федор Иванович рискованные слова, но ведь литература – это риск, а он теперь жил литературой.
– Неужели не сможет? – мягко улыбнулась Татьяна Сергеевна.
Читать дальше