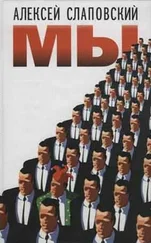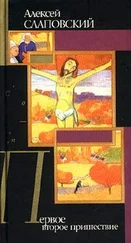Мама Талия ненадолго пережила отца…
Сиротство, которое Талий всю жизнь странным образом ощущал при положительном и заботливом отце, при доброй и любящей матери, стало завершенным и полным.
Впрочем — почему странным образом? Ничего странного. Оно, сиротство, было и у матери его — вместе с ощущением второй жизни, тогда как первая не прожита была до конца, а фатально оборвана. Оно было и у отца, который сиротлив был своей особостью среди людей, своим стремлением к порядку в мире бардака и хаоса. Как же не быть этому чувству у Талия?
Оно, можно сказать, на роду написано, предопределено.
А раз предопределено… — и тут Талий, понимая, что опять сбивается, может уйти в сторону, на некоем мысленном запасном экране — или листе — записал крупно: ПОДУМАТЬ О ТОМ, НАДО ЛИ БЫЛО МНЕ ЖЕНИТЬСЯ, ЕСЛИ Я ЗНАЛ, ЧТО ОСТАНУСЬ ОДИН, ИБО Я ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО РАНО ИЛИ ПОЗДНО БУДУ ОДИН, ЗАЧЕМ ЖЕ ПОШЕЛ ПОПЕРЕК СУДЬБЫ, И НЕ НАТАША ВИНОВАТА, А Я ВИНОВАТ!..
Но сначала — додумать о наследственности, потому что эти мысли должны принести облегчение.
Именно в силу наследственной склонности к порядку он сегодня, только что, когда еще ничего не было кроме каких-то случайных слов, сразу же начал неизвестно что придумывать, раскладывать по полочкам — как делал отец его.
А ведь Талий с этой наследственной чертой боролся. Он опасался, что придет к такому же невеселому жизненному итогу, как Петр Витальевич. Он и сам с малых лет отличался аккуратностью и пунктуальностью. Но все было в пределах нормы — до одного случая, нелепого, глупого и…
В последнем десятом классе он ходил в школу с портфелем. Такова была мода тех лет: большие портфели из кожзаменителя, желательно с двумя замками, желательно оттенков от красно-коричневого до лимонно-желтого, на худой уж конец — черного. В портфеле у него было три отделения, а в отделениях был полный порядок: в одном учебники, в другом тетради, в третьем — ручки, карандаши, готовальня и всякие мелочи. И вот однажды у него пропала ручка с зеленым стержнем. Она была очень нужна. Для той же любимой истории, потому что когда он писал что-то в тетради по истории, то, исполняя весь текст синим или фиолетовым цветом, места наиболее существенные подчеркивал именно зеленым, а совсем уж важные, требующие заучивания наизусть, — красным. И вот пропала ручка с зеленым стержнем. Только что была, на прошлом уроке была, Талий помнил это абсолютно точно, и вот нет ее, потому что портфель он оставил открытым, отлучившись на минуту. Сначала он не очень-то встревожился. Дождался звонка на урок и, когда все собрались в классе, спросил громко: «Эй, кто мою ручку зеленую взял?» Ему не ответили. «Я спрашиваю, кто ручку взял?!» — громче спросил Талий, почувствовав неприятное дрожание в руках. Он обводил глазами всех. Кто плечами пожимал, кто смеялся, кто и вовсе вопроса не заметил. Талий в третий раз спросил — безрезультатно. Неведомое до сих пор раздражение появилось в нем, злость — хоть плачь, хоть губы кусай, хоть дерись! И впрямь — ударить бы кого, только — кого? Кто взял? Усмешка одного из одноклассников, юмориста Сычева (Сыча, конечно же, по прозвищу) показалась подозрительной. «Сыч, ты взял?» — напрямик спросил Талий. «Может, и я», — нахально ответил Сыч. «Отдай, скотина», — сказал Талий, изо всех сил сдерживая себя, даже улыбаясь. «А я уже ее съел!» — выкрикнул Сыч и похлопал себя по животу. Ничего смешного не было ни в его словах, ни в его дурацких жестах, но все засмеялись, потому что привыкли, что все, делаемое Сычом, — смешно. «Отдай, Сыч, не то морду набью!» — полез к нему Талий через парты. «Щас прям! — кричал Сыч, подбодренный смехом. — Подожди, вот в сортир схожу, тогда!» Талий, уже себя не контролируя, подскочил к Сычу, схватил за ворот его, низкорослого и щуплого, и стал трясти, в бешенстве выкрикивая (брызжа слюной — и ненавидя себя втайне, но еще больше все-таки ненавидя Сыча): «Отдай, а то убью! Отдай, отдай, отдай!» Ему дико и непостижимо было: как же это так, сейчас начнется урок, его любимая история, надо будет подчеркивать зеленым, а него нет зеленого! Спрашивать у соседей — у них еще не окажется или не дадут, да и если дадут, то каждый раз не наспрашиваешься! Он дергал Сыча — и это похоже было на какой-то психоз, припадок, кто-то сунулся уже разнимать, уговаривать, дивясь необычному поведению тихого Виталика Белова, который ведь — все знают — и впрямь тих, как снежный солнечный день в школьном дворе за окном — и так же бел, недаром — Белов. («Талий Белов был бел и мил, мыло любил — и сплыл», — из странных, полубессмысленных эпиграмм-каламбуров, которыми любил одаривать друзей приятелей Витя Луценко: просто так, чтоб друзьям приятное сделать). «Да не брал я!»- завопил перепуганный Сыч — и Талий ударил его кулаком по лицу, и еще, и еще, и в это же время все отхлынули: учительница истории пришла. А Талий все бил и бил, учительница кричала, а он все бил и бил, не видя уже, куда бьет, в глазах потемнело, а потом и совсем уже ничего не помнил, очнулся лишь в коридоре, у окна, где учительница теребила его за рукав и говорила что-то, а он весь дрожал — и учительница вдруг замолчала и повела его в кабинет школьного врача. Врач, молоденькая блондинка, усадила, что-то спрашивала мягко, а он глядел на ее волосы и думал, что она их, наверное, красит, она красит их в белый цвет, а если бы в зеленый? — как у его ручки, которая исчезла, пропала, не будет ее никогда, все пропало, все пропало!..
Читать дальше