Про тот приговор от уголовников? Да, естественно, это было в лагере. Да просто проиграли в карты. Вообще-то у них не принято играть на врачей. Врачей даже не шмонают на пересылках. Это у них что-то вроде священника, может, со времен Гааза еще. Ну что, пошел я к ним: «Как же так, мужики? Разве я когда ссучивался?» «Ошибочка вышла, не досмотрели, — сказал пахан. — Иди, доктор, работай, никто не тронет».
Нет, от уголовников только один приговор. Второй в царстве Гулага — это при повторном суде.
В сорок шестом году меня освободили в Покровке. Потом появилась такая статья в сорок восьмом: «Враги на свободе» — обо всех нас, кто еще не загнулся. Какая уж тут свобода — и ту прихлопнули. и снова нас заграбастали.
Повторно меня судили в Ангарске. Девяносто шесть тысяч заключенных строили Ангарск, и первую сосну на этом месте рубил я. Ну так, идет следствие по пересмотру моего дела, делами ворочает полковник Портянкин, а следователем — лейтенант Плеханов. Однажды ночью вызывают меня на допрос. Конвоир — рядовой солдат. Допрос кончился, конвоир — мне: «Ну, доктор, меня отпустили — я пошел». Как это? и идет со мной за конвоира мой начальничек, и — добрый дядя, «сочувствует» мне: «Твое дело безнадежное — лучше бежать», «Куда? От советской власти?» и вижу: я — один. Слинял мой доброжелатель. Понимаю: сейчас меня застрелят. И — спиною в лужу падаю. я уже грамотный зэк: по приказу министра при попытке к бегству стрелять разрешено только по ногам, не в спину и тем более не в грудь. Ну, падло! «Конвоира! — ору. — Где мой конвоир! Конвоира, так вашу мать!» Доорался. Подбежали сторожевые: «В чем дело?»
Вот так, хотели сблатовать меня на побег и пристрелить за здорово живешь.
Полковника Портянкина купно со следователем Плехановым разоблачили вскоре. Но это уже другая история.
Суд по пересмотру моего дела был долгим: сели в восемь вечера — закончили утром. Судья нажимала: десять лет. Прокурор и заседатели бились за три года. Съехали сначала до семи, потом уже на пяти годах остановились: пять лет мне дополнительно к тем, что отсидел с конца тридцать шестого года.
Отправили в Иркутск, в Ангарске не имели права оставить — работников лагеря после суда в этом лагере уже не оставляли.
В иркутской тюрьме ребята на три месяца записали меня в отдыхающую команду — в камере для больных было все вплоть до компота.
В сорок девятом привезли меня в Тайшет к тем, кого восемь лет назад вывозил я с Колымы. Еще много тех людей живы были. Тут отбывал я срок до пятьдесят второго года. и еще год — в Центральной туберкулезной больнице во Владивостоке.
Пятого апреля пятьдесят третьего года, уже сам, поехал работать в Тайшет, в тубдиспансер. Грязь страшнейшая. Нужен был наш нахальный лагерный опыт, чтобы с этим справиться. Дезинфицировали, бросались туда и сюда, тридцать тысяч выхлопотали, наворочали делов.
В пятьдесят шестом, в эпоху реабилитанса прибыл в Москву, в ЦК. Сказали: в Ростове тебя покалечили — туда и езжай восстанавливаться.
Я вышел из лагеря не один. Со мною была, на двадцать лет меня младше, женщинка, моя медсестра, отсидевшая в нашем лагере всего-то несколько лет, но в сущности никогда не знавшая ни своего дома, ни нормальной жизни. Ее дед из старинной шляхетской семьи, владелец большого поместья, умер от ярости, когда крестьяне пришли громить его вотчину. Мать ее скиталась по ссылкам, они с братом воспитывались в детском доме, а когда нагрянули немцы, ушли в подполье. Брата немцы повесили, ее угнали в Германию, где ее забрал в услужение помещик и был к ней добр. При допросе ее в наших органах она разозлила следователя, отказав ему в сожительстве, да еще и посмеявшись над ним, — а была она очень красива, — за что и схлопотала срок по нехорошей статье. Вышли мы из лагеря рука об руку, но счастливы не были. Работать она всегда была согласна, все же свободное время читала, относясь с великим презрением к домашним заботам, а потом и ко мне. и это еще пусть бы, но она оказалась безумно вспыльчива и несговорчива ни в чем. Брак был недолгим, и вторая в моей жизни шляхетка затерялась где-то на просторах нашей обширной Родины. Да я ее и не искал.
На какое-то время я решил, что прирожден быть холостяком, но вскоре снова женился, и, как у госпожи Санд каждый следующий возлюбленный непременно оказывался младше предыдущего, так и я умудрился жениться в этот раз на совсем уже юном существе, на моей Марысе, с которой вот живу и до сих пор, и уживаемся мы на редкость славно. Слышишь, Марыся недовольна, говорит, что загубила со мной свою молодость, а получила только насмешника и охальника. Было мне тогда — э, да черт их считает, наши годы, и пальчиком когтистым грозит, — пятьдесят с большим гаком, а Марысе вдвое меньше, и отец ее на какой-то только десяток лет старше меня, это при том, что Марыся поздний ребенок, да еще и единственный, взлелеенный всем семейством. с нее пушинки сдували, наряжали, как дети куклу, не заметили, как и выросла, и все не видели вокруг достойного жениха.
Читать дальше
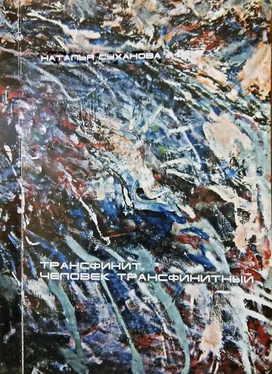








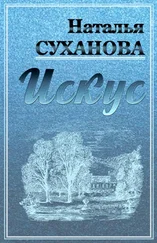
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)