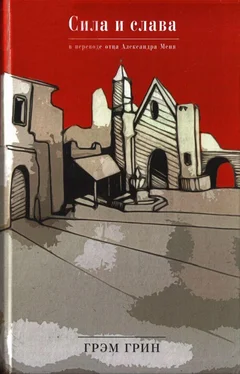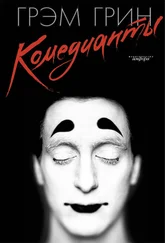— Не может же она быть совсем испорченной, — в этом возрасте, — сказал он умоляюще.
— Она пойдет своей дорожкой.
— Следующую литургию я отслужу за нее, — сказал он.
Мария не слушала. Она сказала:
— Она насквозь испорчена. Насквозь.
Он понимал, что здесь, в этой дыре, у него на глазах гибнет вера. Скоро литургия будет означать для них не больше, чем черная кошка, перебежавшая дорогу. Он ставил их жизнь под удар ради того, что было для них простым суеверием, чем-то вроде просыпанной соли или скрещенных указательного и среднего пальцев.
— А мой мул… — начал он.
— Его сейчас кормят маисом, — прервала она и добавила: — Вам лучше идти на север. На юге шансов больше нет.
— Я думал, может быть, в Кармен…
— Там вас выследят.
— Что ж… — сказал он с грустью. — Может быть, потом… когда наступят лучшие времена… — Он осенил ее, благословляя, знаком креста, но она стояла перед ним, нетерпеливо ожидая, когда он наконец исчезнет навсегда.
— Прощай, Мария.
— Прощайте.
Он шел через площадь, сгорбившись, чувствуя, что все здесь с облегчением следят, как он уходит. Человек, который приносит несчастье, но которого, по каким-то неясным, суеверным предубеждениям, они не решились выдать полиции. Он завидовал неизвестному гринго, которого они без колебаний изловили бы, — тот, по крайней мере, не обязан влачить на себе повсюду бремя благодарности.
По склонам, истоптанным копытами мулов и изрытым корнями деревьев, текла река — не более двух футов глубины; дно застилали жестяные банки и битые бутылки. Прибитая к дереву надпись гласила: «Сваливать мусор запрещается». Под этой надписью выбрасывали все деревенские отходы, и потом они сползали в реку. Когда наступят дожди, все это унесет вода. Священник поставил ногу среди ржавых банок и гниющих овощей и дотянулся до своего чемоданчика. Он вздохнул: это был совсем хороший чемоданчик, тоже память о мирном прошлом. Скоро станет трудно помнить, что жизнь когда-то была другой. Замок был сорван, он пощупал под шелковой подкладкой… Бумаги на месте. Он с сожалением выпустил из рук чемодан, словно бросил среди консервных банок всю свою респектабельную молодость — его подарили прихожане Консепсьона к пятой годовщине его рукоположения… За деревом кто-то шевельнулся. Он вытащил ноги из мусора, мухи облепили его щиколотки. Скомкав бумаги в кулаке, он обошел ствол дерева, чтобы посмотреть, кто его выслеживает… На корнях сидела девочка и била пятками по коре. Глаза ее были плотно зажмурены.
— Милая, что с тобой?
Она быстро открыла покрасневшие веки и взглянула злобно, с выражением нелепой гордости.
— Вы, вы… — сказала она.
— Я?
— Все из-за вас!
Он приблизился к ней с величайшей осторожностью, словно к зверьку, который ему не доверяет. Чувствуя слабость от прилива нежности, он спросил:
— Родная, почему я?
— Надо мной смеются, — сказала она в ярости.
— Из-за меня?
— У всех отцы… работают.
— Я тоже работаю.
— Ведь вы священник, правда?
— Да.
— Педро говорит, что вы не мужчина. От вас нет проку женщине. Не знаю, что это значит.
— Педро, наверно, и сам не знает.
— Он-то знает! Ему десять. И я хочу узнать. Вы ведь уходите, верно?
— Ухожу.
Его снова ужаснула ее зрелость, улыбка, которую она извлекла из своего обширного и богатого арсенала.
— Скажите… — проговорила она игриво. Она сидела рядом с отбросами на корнях с непринужденным видом. Жизнь ее уже была отмечена червоточиной, как загнивающий плод. Она была безоружна — в ней не было ни прелести, ни обаяния, которые могли бы послужить ей защитой. Сердце его дрогнуло от сознания потери.
— Родная моя! Остерегайся…
— Чего? Почему вы уходите?
Он подумал: может ведь человек поцеловать собственную дочь, и подошел ближе, но она отпрянула.
— Не трогайте меня, — крикнула она своим прежним пронзительным голосом и хихикнула.
Каждый ребенок рождается с каким-то представлением о любви, подумал он. Его впитывают с молоком матери; но от родителей и друзей зависит, какого рода любовь он узнает — спасающую или губящую. Разврат — тоже род любви. Он видел, что она увязает в этой жизни, точно муха в липучке. Рука Марии всегда готова ударить; Педро ведет в темноте разговоры, неподходящие для ее возраста; полиция прочесывает леса, — всюду насилие. «Боже! — молился он. — Дай мне любой род смерти, без покаяния, пусть в грехе, — только спаси это дитя».
Ему полагалось спасать души; это казалось так просто когда-то: нужно было читать проповеди в конце мессы, организовывать религиозные общества, пить кофе со стареющими дамами у зарешеченного окна, освящать дома, куря ладаном, носить черные перчатки… это было так же легко, как, например, копить деньги; теперь это стало тайной. Он сознавал свою полную непригодность.
Читать дальше