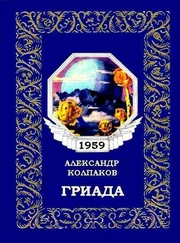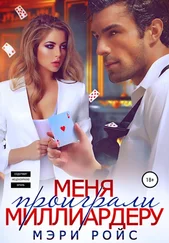» – и следом: «
Фу-фу, подуйте ». Можно было бы считать это хорошо отработанным приемом (чистый пафос скучен, к постоянному плачу привыкаешь), но тут, кажется, история более важная: Колпаков работает не с читателем, а с собой, контролирует не читателя, а себя, не позволяет этот плач, поминальный вой – себе: «
Я ненавижу инфантильных людей и целенаправленно окружаю себя ими. Они хорошие, но я знаю про них правду: им нельзя доверять, потому что они с легкостью втыкают нож в сердце, а потом ссылаются на состояние аффекта. Только аффект у них – естественное обстоятельство жизни ».
Эта постоянная тема – ощупывание своего сознания, контроль над ним – дает роману (хотя «Сёрф» повесть, конечно, но какая он повесть, не по объему же судить) еще одно важнейшее свойство: этот роман о том, как хорошо быть живым. Так непрестанно ощупывают языком больной зуб – неужели выносимо? Да, выносимо, и не просто выносимо – как же прекрасно, как же хорошо, что этот зуб болит так, потому что он мог бы болеть иначе, болеть невыносимее . Экзистенциальный роман per se: текст об ожидании, понимании, проживании смерти (такие случаются нередко) оказывается текстом о проживании жизни; в смысле – о ежесекундном житии в ней; такие нечасто встречаются. «Мне сейчас так хорошо, я прочитал уже «Перевал» и на очереди «За перева лом»; «Я люблю смотреть, я использую зрение на всю катушку. И я рад, что спустя двадцать лет мое зрение не отказывает мне в моих маленьких же ланиях»; или, скажем, фрагмент о счастье, целиком состоящем из пара, вечернего воздуха, чистого полотенца: «Не моя ванна, чужая, хоть и мытая, хоть и привычная мне, я был счастлив в этой ванне».
Поразительна эта способность (она же, кажется, панацея) говорить себе «я живой» (собственно, тексты о ней и составляют positive space романа, то, что говорится вслух) не только в микро-, но и в макроявлениях, в ровном интересе – буквально – ко всему живому: « Се годня Первомай. В Москве четырнадцать митин гов. Я видел уже два. <���…> Завтра пойду еще на какой-нибудь митинг ». Все поймать, все сохранить, потому что все – свидетельства; того, что ты – невероятно, невообразимо, но правда же? – живой: пусть даже оно неживое, пусть неживым его сделал ты: накалывание бабочек, ловля стрекоз (и за два шага до этого – небольшое па, упоминание «Других берегов», пахнущих дорогою лаковою шкатулкой; другой игры, игры в воспоминания о семье и детстве, ставших неживыми ).
Живое движется – или, по крайней мере, что-нибудь движется внутри него (делятся клeтки; умирают клетки; «бегут соки» – такое было, умершее нынче, выражение, очень удобное, потому что и правда помогало говорить про все живое сразу). «Сёрф» самим названием подразумевает, что он – роман движения (частью по воле волн / по воле невыносимой логики создания negative spaces, огибания и приближения); фрагментарностью же – что он едва ли не травелог, записки, сделанные в пути. Но: дорога, по которой движется вселенная этого текста – лента Мебиуса, пытающая притвориться простой полоской, свернутой в кольцо. Сам Колпаков в некоторый момент пишет, что «возвращение – логичная точка в конце предложения» ; где есть возвращение, там есть порядок, ничто не заканчивается ничем, а чем? Но весь роман, с его возвращениями, опрокидывает это утверждение: это путешествие, в котором нет лицевой стороны пути – и другой, недосягаемой, изнаночной, по которой можно было бы при желании пройти совсем иной, может быть – дуально отличный от твоего путь. В «Сёрфе», кто бы и куда ни шел, как бы ни пытался перейти на другую, «изнаночную» сторону жизни – оказывается здесь же: житель умирающей деревни Куеды, отец, уходящий от семьи, герой, пытающийся отдалиться от отца, дед, который, казалось бы, пережил сына. «В сборнике «Наш мехмат» одна статья называется просто офигительно – «Ретроспектива как источник пер спективы». <���…> Может ли жизнь человека захлопнуться подобно книге? Смерть ли должна быть последним словом на ее последней странице? Даже если так – я хочу знать весь текст, от начала до конца. <���…> «Ретроспектива как источ ник перспективы». Обратной перспективы или прямой – это уже детали». Если двигаться по ленте Мебиуса, от ретроспективы как источника перспективы некуда деться: на другую сторону не скользнешь, не просочишься на изнанку, где все могло бы быть иначе. «Вот она – недостающая часть в моих рассуждениях: я вижу, как шаги отца сменились моими шагами, и узнаю походку. Я вычислил его, засек, зафиксировал в самом себе. Теперь он уж не уйдет от меня, не шагнет за окошко, не выпьет яда забвения. Да ведь и я от него не уйду». Именно из-за этого, кажется, Колпакову удается избежать одного из нехороших, обесценивающих текст соблазнов, которым поддаются авторы фрагментарной прозы: даже там, где описываемое событие готово с озорными брызгами плюхнуться в формат анекдота, Колпаков этот анекдот не создает (скажем, в притче про опаздывающего попутчика, инспектора ГИБДД, который стеснялся предложить автору гнать машину побыстрее). В логике романа, движущегося по ленте Мебиуса, анекдот недопустим по причинам логического характера: ничего не заканчивается настолько, чтобы допустимо было подвести под событиями панч-лайн. Плата за отказ от восприятия, разделенного удобными панч-лайнами на удобные для прожевывания кусочки, оказывается высока – идущему по ленте Мебиуса тяжело не сбиться с подсчета пройденных кругов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
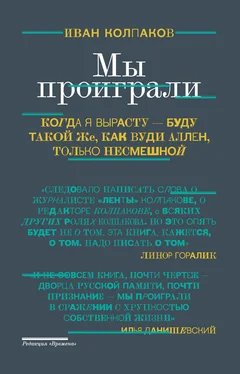

![Александр Колпаков - Нетленный луч [Если это случится…]](/books/54098/aleksandr-kolpakov-netlennyj-luch-esli-eto-sluchits-thumb.webp)