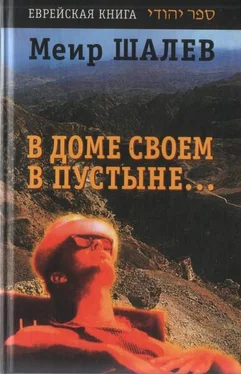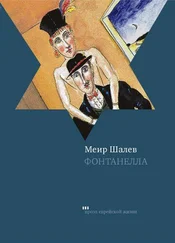— Ты хороший человек? — спросил он.
— Я очень хороший человек, — сказал я.
— Ты подаешь милостыню?
— Каждый день, — сказал я. — Спроси кого угодно.
Его длинное, сутулое тело вдруг затряслось, моргающие красные глазки уставились на меня. Он отвесил мне поклон и пропел:
Поздравляем нашу Симу,
Поздравляем и тебя,
А твоя кликуха Рафи,
Я супружница твоя.
— Возьми, — протянул я ему монету. — Возьми и замолчи. Главное — замолчи.
И тут я ощутил легкое головокружение, потому что туловище мое вдруг само собой повернулось кругом, а ноги сами понесли меня назад в контору даже прежде, чем мозг мой понял, чего они все хотят. Я сказал начальнику, что мне нужно взять отпуск на день, и прямиком из конторы направился к вам. Я не хотел заявляться в ваш дом раздраженным и раздерганным и поэтому решил ехать кружным путем, по проселочным дорогам, через Лахиш и Бейт-Шемеш, и уже оттуда подняться в Иерусалим.
Я зашел в лавку и купил «еду на дорогу», чтобы не пришлось «одалживаться у людей» или выбрасывать «уйму денег» в придорожных киосках, и возле перекрестка Бейт-Кама, не сдержавшись, свернул с автострады в сторону мягких, гладких, уже чуть проросших холмистых полей и стал пробираться на север и восток проселочными дорогами, по которым в эту пору года вести машину — одно удовольствие.
Немного погодя я сделал привал на зеленом, с красными пятнами маков, пригорке, чтобы отдохнуть и перекусить. Я разостлал на траве свою старую замызганную брезентовую подстилку и разлегся на ней. У меня было с собою все, что мог бы попросить для последней трапезы приговоренный к смерти: свежая хала и банка анчоусов, огурцы и помидоры, головка чеснока и кусок сыра, и все это, вкупе с зеленым пучком петрушки и большой, запотевшей от холода бутылкой пива, навеяло на меня дремоту.
Не знаю, сколько я там спал, но какой-то мягкий, неведомый мне шелест вдруг выплыл из моего сна. Еще не открыв глаза, я уже знал, что проснулся, и вот так, с закрытыми глазами, пытался опознать этот шелест, который тем временем усилился и превратился в шум ветра, а тот, в свою очередь, стал нарастать и превратился в громкое хлопанье, подобного которому я никогда не слышал, и в глубине души я сравнил его с ударами крыльев больших невидимых птиц.
Я открыл глаза и увидел их: десятки больших аистов, которые один за другим опускались на землю и начинали расхаживать по траве, почти рядом со мною, меж тем как множество других — черные точки, которые отращивали крылья, клювы и ноги и по мере приближения становились светлее и крупнее, — парили надо мною кругами.
Не знаю, как другие, но я способен распознавать блаженство в ту самую минуту, когда оно нисходит на меня. Не предвкушать его в виде надежды и не возвращаться к нему в виде воспоминаний, но хвататься за него и просить его продлить свою благословенную милость в тот самый миг, когда оно во мне. Так было, когда я клал голову на грудь Черной Тети. Так было, когда я сидел на руках Авраама и мы играли в «кач-покач, как-покач, вверх-и-вниз, вниз-и-вверх». И так у меня с Роной, когда я лежу и она лежит, меж тем как капли золота и синевы, солнца и ветра просачиваются к нам сквозь кружево листьев акации.
Вот так же лежал я, с сердцем, жаждущим и ждущим, не смея пошевельнуться, пока все крылья не сложились, и их шелест умолк, и небеса надо мной опустели, лишившись черных точек, и снова налились глубокой синевой, и все до единого аисты уже расхаживали вокруг меня на своих высоких красных ногах.
Так я лежал, окруженный блаженством близости этих больших уродливых птиц, и хотя меня ждала далекая дорога, не решался встать, опасаясь, что спугну их и с их отлетом опустеет и мое сердце.
Не знаю, сколько часов прошло, но вокруг медленно-медленно похолодало, и внезапно, без всякого предваряющего знака, аисты враз захлопали крыльями и взмыли в небо, чтобы продолжить свой путь.
Сначала воздух задрожал от их сильных, могучих ударов, потом удары превратились в шум крыльев, который, в свою очередь, превратился в шум ветра, который, в свою очередь, превратился в еле слышный шелест, и, наконец, шелест стал тишиной. Аисты снова стали черными точками, те всё уменьшались и уменьшались в размерах и вскоре уже описывали надо мною далекие круги, точно маленькие черные зерна мака, когда они кружат по поверхности прозрачного молока в чашке, — ты помнишь, паршивка? или ты помнишь только слова и рассказы? — а потом исчезли совсем, направляясь на север.
Читать дальше