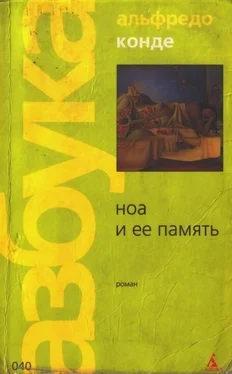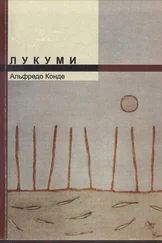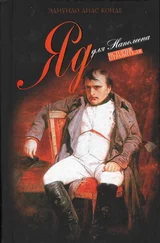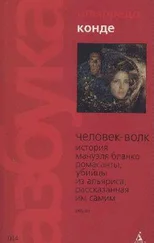— Когда-нибудь кто-нибудь вспомнит предательство, которое ты сейчас совершаешь. У народа хорошая память.
— О, да! — вставил дядя.
Мой дядя был человеком здравомыслящим и благоразумным, и он извинился передо мной, понимая, что я за этот месяц исходила по его вине столько дорог, сколько он не прошел и за последние двадцать пять лет, так он все и выложил Кьетану, чей взгляд стал другим, хотя я и не смогла толком понять, выражал ли он теперь восхищение, зависть, презрение или удивление; впрочем, существует еще три или четыре способа истолковать его, на которых я не хочу останавливаться. Дом по-прежнему будет принадлежать только мне, заключил мой дядя, принося свои извинения, а еврейский отпрыск — говорю это без какого-либо уничижительного оттенка по отношению к столь выдающемуся этносу — многообещающе и примирительно улыбнулся, соглашаясь с принятым решением.
Мои кузены присутствовали при этом разговоре молча, лишь в самом конце вмешался старший, предложив другой дом, поменьше и более уединенный, принадлежавший семье в окрестностях К. Этот дом действительно был отдан для использования в борьбе, в которой принимали участие мой дядя и Кьетан. Так вот, по завершении беседы я опять договорилась с Кьетаном увидеться через несколько дней: он зайдет за мной. Мы не обсуждали ни нашу последнюю встречу и его «я тебя найду», ни что бы то ни было иное, что могло бы нас взволновать, но я вновь оказалась под впечатлением его красноречия, хотя меня совершенно не тронул его взгляд, который был, по всей видимости, взглядом сердцееда. Позднее, когда уже будет решено, что мой кузен остается в К. для изучения маленькой зеленой страны с точки зрения антропологии, в которой он специализировался, он мне признается (он делил свой дом, дом своего отца, со мной и являлся молчаливым свидетелем моей жизни), что было бы ужасно, если бы кто-нибудь нарушил своим присутствием очарование старинного особняка и наше взаимопонимание (он никогда не был особым поклонником Кьетана), и что он благодарен мне за вмешательство, сделавшее неосуществимой возможность делить с кем-либо наш дом. Но это уже совсем другая история.
Закончив разговор, мы пошли в ресторан, где вместе пообедали, а еще до того заглянули на рынок, чтобы купить продукты на ужин, потом зашли домой, чтобы оставить купленное; всю дорогу мой дядя рассказывал мне, словно оправдываясь, как он познакомился с Кьетаном, как встретился с ним в баре и какое значение имели и смогут иметь в будущем эта встреча и его отношения с Кьетаном. Слушая дядю, я думала, не является ли все это не только оправданием, но и своего рода попыткой вовлечь меня в их борьбу, познакомить с ней; мне бы хотелось думать, что это не так: ведь все, что рассказал мне мой дядя, затем помогло мне понять, как вести себя с Кьетаном, как определиться в политическом отношении и решить для самой себя степень своего участия в деятельности политического подполья; получалось так, что это подполье добавлялось теперь к тому, в котором я постоянно пребывала в качестве дочери епископа и матери-одиночки. По отношению к Кьетану я всегда находилась в привилегированном положении: я знала о нем все, он же не знал обо мне ничего, чего бы я не хотела, чтобы он знал; он не знал даже, кто мой отец, и тем не менее все пошло своим чередом. То, что было подготовлено тем летом, произошло с участием Кьетана и моего дяди и с помощью, пусть не прямой, но весьма эффективной, моего старшего брата и моей собственной. Дядя оставался тем, кем он был всегда, но теперь его позиции подкреплялись наличием у него паспорта гражданина США и братскими узами, связывавшими его с епископом О., и можете поверить, он не преминул воспользоваться обоими обстоятельствами, хотя мне не слишком нравилось, как он выставлял напоказ второе из них.
Ужин был у нас дома, если только то, что приготовила моя кузина, можно считать таковым: в качестве первого блюда — салат из латука, сладкого перца, огурцов, помидоров, фасоли, лука, свеклы и еще чего-то, что сейчас я не могу вспомнить, все перемешанное, в сыром виде, без капельки соли, оливкового масла или уксуса, которые могли бы сделать все это не таким жестким и более съедобным для добрых христиан и приличных людей. В качестве второго блюда были поданы различные сорта сыра, которые предполагалось запивать кока-колой или пивом. Просто чудо что за ужин.
Хорошо еще, что поскольку дом в течение долгого времени был на моем попечении, в кладовке нашлись консервы, копченый окорок, колбаса и пара бутылок вина, это позволило поужинать (не хочу сказать, что лучше, но, по крайней мере, так, как мы привыкли) Кьетану и мне, а также моим дяде и старшему кузену, которые с удовольствием присоединились к нам. В результате после ужина осталось столько салата, что его хватило бы для прокорма на протяжении нескольких дней пары поросят, а разнообразие сыров, к которым я добавила еще два сорта из тех, что хранились у меня в кладовке, послужило компенсацией этому кулинарному безобразию. Иностранцы ничего не едят, они стройны и проворны, как косули, это правда: они едят только тогда, когда еду готовишь ты, и уж тогда они наедаются до отвала; у себя дома они готовят сами, и в этом случае ты умираешь от голода. Однажды, когда я выложила это свое соображение Кьетану, он счел себя глубоко оскорбленным и обозвал меня деревенщиной, сказав, что с такими людьми, как я, маленькая зеленая страна никогда не продвинется вперед, но в тот вечер он ел мою еду, и надо было видеть, какие строил гримасы, пережевывая зеленый сырой перец. Однако салат оказался как нельзя кстати, когда к концу ужина появились Педро и моя тетя, которая, по-прежнему одержимая своей страстью к фотографированию, изъездила множество дорог маленькой, зеленой, бедной и грустной страны в поисках людей и деревьев, всего того, что можно было увековечить на фотопленке. Они с Педро очень подружились, возможно, благодаря своим художественным пристрастиям, и их отношения вдруг возбудили во мне ревность, хотя чисто внешне эти отношения объяснялись как будто лишь общей страстью к иконографическому отображению мира. Должна признаться, я никогда не переносила рядом с собой женщин: пока были только господин епископ и Педро, все шло хорошо; когда к нам присоединились мой кузен, Кьетан, мой дядя и другие мужчины, возникающие в моей памяти, все было гармонично и безопасно; но стоило появиться женщинам, как все рушилось. Я могла переносить Кьетана, если он был мой и говорил для меня, Педро и мой отец всегда были моими, но если вдруг по какой-то случайности они оказывались окруженными одинокими женщинами, будь то даже Эудосия или Доринда, во мне просыпалась глухая агрессивность, и все становилось с ног на голову, и проявлялось это, как я теперь понимаю, в моей язвительности и в моем холодном металлическом тоне. Так я относилась к кузине, ревнуя ее даже к ее братьям, так же и к тете, использовавшей Педро в качестве личного гида по прекрасным долинам и идиллическим рекам, пока мой дядя создавал новые политические группы, реорганизовывал старые и искал каналы для поступления денег, что вступало в противоречие с моими представлениями, сформировавшимися благодаря сентиментальному воспитанию, которое, как я уже неоднократно замечала, моему отцу удалось мне дать.
Читать дальше