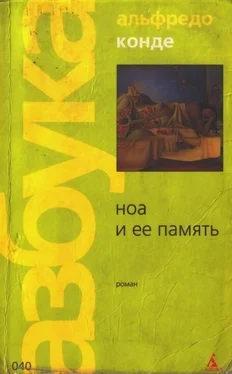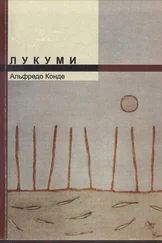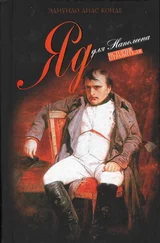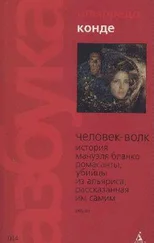Когда он приезжал один, я знала, что какое-то время он принадлежит только мне, ровно до тех пор, пока не появлялась моя мать и они не запирались на несколько часов в комнате. Иногда, весьма редко, он звонил по телефону и предупреждал рано утром или накануне о своем приезде, это случалось обычно, когда я была в школе. В таких случаях я знала, что он мой, как только покинет комнату, и я также знала, что, начиная с этого момента, не следует играть или смеяться, а надлежит неторопливо поговорить обо всем, что только может служить темой разговора; обо всем, кроме одного: мы с отцом никогда не говорили о религии. Никогда.
Свою роль сироты я окончательно выучила в П., и вся моя жизнь с тех пор подчинялась постоянному и дерзкому стремлению всячески выставить напоказ это свое положение, что и сейчас создает некую рефлекторную обусловленность моего поведения, впрочем, я толком не могу объяснить, в чем она состоит. Я научилась справляться с этой ролью с той же легкостью, с какой ходила по дому, рылась в сундуках и вещах, населявших чердак, или отдавала распоряжения прислуге, с которой я постепенно знакомилась: от старой Эудосии до епископского шофера, включая слуг, обслуживавших земельную собственность, принадлежавшую семье моего отца в окрестностях П.; наш дом находился не слишком далеко от этих окрестностей, от него было рукой подать и до города, и до деревни. Я достигла указанной легкости, сознательно ее в себе развивая, исходя из своего ярко выраженного чувства собственности; надо сказать, что это чувство, которое, судя по всему, тем более развито, чем более инфантильны порождающие его мозги, и которое позволяло мне бродить повсюду, ощущая себя хозяйкой дома, было совершенно недоступно моей матери. Та уверенность, которую она постоянно демонстрировала прежде, стала исчезать у нее, как только мы приехали в П., постепенно превращаясь в болезненную неуверенность, в гнетущее чувство того, что она живет там из милости. Теперь я думаю, что эту ситуацию усугубляло ощущение власти, исходившее, по всей видимости, от моего маленького существа, моего дерзкого маленького существа; и вот молчаливая покорность лет, проведенных в М., стала постепенно превращаться в циничную отчужденность, обидную холодность, тотчас же подмеченную моим отцом, который постарался со всей возможной деликатностью ее смягчить.
Постоянно усугублявшаяся холодность моей матери была заметна во многих проявлениях ее нрава, изменчивого и непостоянного, а также в ряде подчас удивлявших нас поступков. Даже и в лучшие свои времена моя мать не была ласковой, полной нежности женщиной, нет. Я не часто ощущала тепло ее объятий, слышала мягкость в голосе или чувствовала, как на мою щеку, словно голубка, нежно опускается рука; у меня была холодная и отстраненная мать, хотя я догадываюсь, что любовницей она была умелой и пылкой. Она была женщиной до мозга костей, женщиной, проявлявшей свои редкостные достоинства в те часы, что следовали за прибытием в дом господина епископа, как уже отмечала где-то в этой летописи моя память; но она была суховатой и сдержанной в том, что касалось раздачи материнских ласк и супружеских добродетелей. Она была светловолосой и холодной, и вокруг нее все жили в тоскливом ожидании неизбежных упреков и выговоров по поводу какой-нибудь невольной оплошности. По приезде в П. она вдруг стала в высшей степени взыскательной и требовательной как к себе самой, так и к управлению домом, а после двух или трех лет жизни там у нее появились головные боли, возникавшие всегда весьма кстати и позволявшие ей при любых условиях изящно, достойно и убедительно избегать встречи с моим отцом.
В моем альбоме есть фотография моего тринадцатилетия, на ней мы с отцом играем в шахматы: он восседает в своих длиннополых одеждах, а я демонстрирую формирующуюся, я бы даже сказала, судя по фотографии, уже почти сформировавшуюся женственность — я имею в виду ее физическое проявление, а именно пару хорошо развитых грудей, выпирающих из-под тесного свитера из ангорской шерсти, который всякий раз, когда я беру в руки фотографию, кажется мне смешным и ужасным. У меня нет ни одной фотографии, где бы я была снята с матерью, ни в один из моих дней рождения. На всех тех, где мы вместе, запечатлена высокая светловолосая женщина с грудным ребенком на руках или та же самая высокая светловолосая женщина, катящая коляску, в которой угадывается спящий там ребенок. И я думаю, гораздо чаще, чем хотелось бы, что в поведении моей матери инстинкт самки преобладал над материнским началом, иными словами, во мне она видела скорее другую самку, нежели дочь. Думаю, что именно этими жестокими, возможно, даже циничными причинами и объясняется то, как стремительно развивались в наших отношениях отчуждение, холодность и даже полное отсутствие какого-либо интереса друг к другу. В союз с моим отцом моя мать вносила прежде всего пылкий секс, и испытывала ревность к молоденькой самке, игравшей с отцом в шахматы, говорившей с ним на недоступные ей темы, кравшей у нее самые нежные ласки; она чувствовала себя отодвинутой на второй план моим властным поведением в доме, ощущением обладания этим пространством и тем, как я демонстрировала при первой же возможности свое острое чувство собственности, которое просыпалось во мне в этих стенах.
Читать дальше