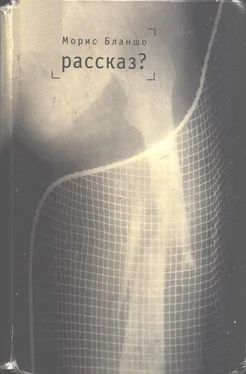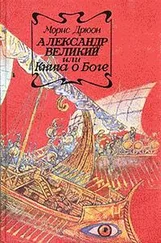Я мог бы встать и, разбив стекла, пойти, как говорят, напролом: думаю, у меня бы хватило на это сил. Конечно, в том необыкновенном терпении, которое не давало мне сдвинуться с мертвой точки яростного желания, присутствовало искушение заговорить, невероятное, драматическое искушение разоблачить речью это затишье, произнести слово, последнюю истину слова; но я не говорил; мне кажется, что бы там ни рассказывали книги, что я так никогда и не заговорил. От слабости? из уважения к счастливым чувствам? Я не хотел позорить истиной то, что более истинно, чем она, — да к тому же я не судья. Речь на меня не возлагалась.
Я так никогда и не заговорил, но никогда в любой миг могло кончиться; никогда, очень близкий предел для того, кого сжигает нетерпение. В какой-то момент, когда Клавдия “случайно” проходила мимо, та же случайность побудила ее остановиться и в меня всмотреться — очень даже назидательным образом; я хочу сказать, что она благодаря мне, благодаря моей близости многое обо мне разузнала, и я тоже на свой лад чему-то этим обучился, я извлек отсюда кое-что новое (это не имело с ней ничего общего: что-то новое, но в свободном состоянии, светозарная, мерцающая частичка). Спросить ее? Из-за холода — а для рефлектора не было тока — дела заколебались, превратились в развлечения: в этом проявлялась порочность дня. Думаю, что во многом их поведению всегда недоставало серьезности, и этой-то нехваткой и объяснялось, почему жизнь шла столь весело. Вполне могло произойти какое-либо происшествие (я как-то видел, как подруга отшатнулась от расчесывавшей ей гребнем волосы Клавдии резким движением, чуть ли не диким прыжком), сцена эта — нечаянно выдранные волосы, непроизвольно прихотливая реакция — принадлежала к миру веселой жизни: милая, лишенная всякой важности причуда (но стоит отвергнуть навязчивый закон серьезности, и предельно важным становится все); в этой сцене не было ничего, способного вызвать реальные затруднения. Я смотрел, как они проходятся расческой и щеткой по волосам друг другу, неопределенно растягивающаяся церемония с тысячью вариантов. В этой картине я узнавал противоядие от растворяющейся вечности снега, игру, в которой разыгрывалось время. Конечно, я должен был принимать увиденное во внимание. Я подпал под его обаяние? Да, радостное обязательство — обязательство остаться здесь, чтобы увековечить то, что я видел: тысячу вариантов церемонии, Клавдию, радостно распускающую свои волосы, напоминая им, каким именно образом они причесывались раньше, этим ничегошеньки не помнившим из своей истории волосам, из-за чего игра эта почти никуда и не заводила, разве что к туманным подражаниям, под прикрытием которых проступало выражение лица, атавистический облик, который, казалось, ей не принадлежал, а отражал нечто земное, почвенное, неотъемлемую основу, вытягиваемую из глубины наружу попытками притворства. Подобное лицо отнюдь не предназначалось быть видимым; я видел его словно бы исподтишка, “случайно”, хотя вся эта сцена в такой момент, казалось, только ради этого видения и имела место. В такой момент? и с каких это пор идет речь об этом моменте? И однако произошло это как раз в такой момент, с неожиданностью, в которой я отдавал себе отчет, и притом столь разительной, что она лишила смысла само слово “вдруг”: я обнаружил, что вновь захвачен, вновь пойман этим резким движением, чуть ли не диким прыжком, о котором уже говорил и которое воплотилось как вспышка молнии. Я так и не смог понять, в какое мгновение это случилось, но сам ее резкий отскок меня потряс, захлестнул ужасом; думаю, я увидел свет дня, видение труднопереносимое, мгновенное, связанное все с тем же отскоком, словно этот разрыв между ними двоими, этот жестокий промежуток… но дойти до конца этой фразы, нет, я не смог. Я встал, я чуть не падал на пол. Слава Богу, я был при смерти; слова эти не стали каким-то открытием, но, пресекая мое падение, под пронзительным дневным светом явили себя своего рода оракулом, который подавлял мои силы и подталкивал их к безжалостно размашистому колебанию: “Смерть! но, чтобы умереть, надо писать. — Конец! а для этого писать надо до самого конца”.
Не знаю, не этот ли шок открыл для меня ту пору, в которую, как говорится, меня отпустило. До некоторой степени с него и начался новый, со многих точек зрения трагический период, но шок этот блуждал, как ему заблагорассудится, едва ли можно принять его за точку отсчета для какого бы то ни было начала. Я этого никогда не скрывал: ужасен, да, он был ужасен — и мощью своего потрясения, каковое, прежде чем коснуться меня, смахнуло время, через так разверзшийся колодец я и падал тем не менее к головокружительному сердцу времени, к одной безжалостно точной дате; и этой самой датой, о которой ведь было никак не узнать, возвращаешься ли к ней, с усилием превозмогая свою же энергию, или она вновь тебя залучает, поскольку в действительности время и не проходило. Тут-то и заключалась одна из по самой своей сути тягостных сторон этого события, хотя были и другие, о которых я не могу говорить напрямик. Кроме того, в эдакое дикое движение превращало его то обстоятельство, что, сколько бы оно ни тщилось повториться, по сути дела оно не повторялось; казалось, что и у него тоже были свои взгляды и своя собственная жизнь, а впрочем, оно до некоторой степени учитывало направленность дней и каждодневных обстоятельств, хотя последние и были скорее околдованы этой необычайной мощью, изо всех сил пытаясь все же продолжать играть свою роль. Я делаю сейчас это замечание, поскольку сейчас, обнаружив, что вновь нахожусь в той же точке, обливающийся потом, — тогда мне пригрезилось, что я лежу в наполненной водой ванне, — оказался охвачен приступом глубокой слабости. По правде говоря, я чувствовал приближение этого момента уже давно. Благодаря раздразненной энергии, я преуспел в том, чтобы опустить занавес, подавить тщетные вопросы, что же происходило “на самом деле”. Но теперь, из глубин моей подавленности, в этой яме в виде ванны, куда я в некоторый момент оказался опущен и оставлен там словно по недосмотру, дневной свет виделся мне столь издалека, да и сам день был столь ограниченным, столь смутным и обособленным, что я не стал упираться, все равно в конечном счете это было неизбежно, и в ответ на мою податливость тут же пришла — в этом я, естественно, не очень-то отдавал себе отчет — холодная, безразличная ясность. Тем не менее вспоминаю необыкновенную грусть, которую принес мне этот миг. Я утратил все свое нетерпение. Мне было скорее хорошо. На заданный вопрос я ответил: “Ну со мной-то все в полном порядке”.
Читать дальше