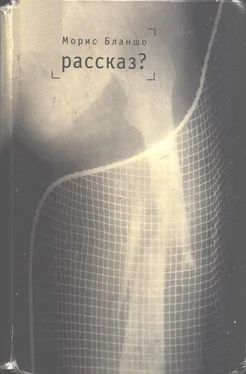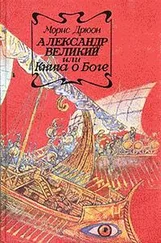Легкой он мою жизнь не сделал, настолько он был важен и до такой степени незначителен. Не представляло труда убедить себя, что он что-то скрывает, что он скрывается. Всегда спокойнее всего предполагать, будто за тем, что вас мучит, кроется некий секрет, но таилось это секретное в нас самих. Вероятно, мы его удивляли, но ему, чтобы о нас любопытствовать, недоставало заботы о самом себе. И любопытство являлось проступком, совершить который мы по отношению к нему не могли; он с такой кротостью взывал к скромности, к сдержанности закрытых глаз; он этого просил — чтобы его не видели, чтобы не видели, насколько мы в его глазах исчезли, какие мучительные усилия он прикладывает, чтобы не смотреть на нас как на обитателей другого берега. Позже я отчетливо увидел, что он обратился ко мне лишь для того, чтобы еще кротче сообщиться с этой мыслью; она стала слишком сильной, ее надо было подвергнуть испытанию. Думаю, что потребность кончить говорила с ним все более и более повелительным тоном.
Можно ли жить рядом с тем, кто страстно невесть во что вслушивается? Это вас изматывает, сжигает. Хочешь хоть чуть-чуть безразличия; призываешь забвение; забвение, что правда, то правда, оттуда и не отлучалось: именно перед страстными глубинами забвения и следовало говорить беспрестанно, безостановочно.
Он не был для нас чужаком, напротив, был близок той близостью, что походила на ошибку. На манер, которого я себе не представляю, он уверенно боролся, чтобы не нарушить непринужденность наших с ним повседневных отношений. И сколь, тем не менее, трудно было мне до него додуматься: сам по себе я никогда до этого не доходил, мне нужно было воззвать внутри себя к другим. Более всего он, казалось, опасался обделить нас своим вниманием — когда разговаривал, когда наобум, словно что-то предчувствуя, замолкал. Он, наверное, знал, что представляет для нас испытание, и старался сделать его по возможности легким. Он был там, этого хватало, он был там одним из нас, предельная тактичность, если только как раз этой осмотрительности мы и не чувствовали мы себя подверженными. Самое странное, нас, всех нас, не покидало ощущение, что для его присутствия нас едва хватает и что в одиночку его не удержать — не то, чтобы он был слишком навязчивым, напротив, ему требовалось, чтобы им пренебрегали. Ему надо было быть лишним: еще одним в придачу, всего только еще одним.
Мы, однако, тоже ему сопротивлялись, мы сопротивлялись ему почти постоянно. Поразмыслив об этом, я начал думать, что вокруг нас существовал некий круг, и переступить его он не мог. В нас самих имелись отдельные точки, в которых он нас не касался, достоверности, к которым не имел доступа, мысли, продумать которые мы ему не давали. Не было нужды ни в том, чтобы он видел нас такими, как мы есть, ни в нашем искушении разузнать, чего же он в нас не видел. Но не легко уклониться от внимания, которое рассеивается, оставляет вас, не успев толком захватить. И, может быть, каждый, сохраняя то, что было для него центральным, только и стремился ему на это и указать — не знаю уж из какой потребности взять его под свою опеку, словно на сохранение. Что я мог бы пожелать от него отбросить, что из достоверного мне было бы необходимо сделать для него совершенно зыбким? Я тотчас же отвечал: его, только его. Но в то же время мне кажется, что про себя я отвечал совсем по-иному.
Возможно, он был среди нас — поначалу среди нас всех. Он нас не разъединял, он поддерживал некую пустоту, которую не хотелось заполнять, ее надлежало уважать, может, даже любить. Когда кто-то прерывается, трудно не пуститься на поиски пропавшей мысли, но хотя его мысль частенько к нам и взывала, подвергнуть его подобному насилию не представлялось возможным, со столь безмерной невинностью, столь явной безответственностью он замолкал, он смолкал целиком и полностью. Что не звало на помощь, не вызывало смущения, что кротко убивало время. Он был среди нас, но не лишен при этом своих скрытых предпочтений, подвержен порывам, которые не удавалось предусмотреть, которые ни с того ни с сего вдруг отбрасывали его вдаль — не только безразличного к окружающим, но и навязывающего нам безразличие к самим себе, отодвигая нас от тех, кто был нам ближе всего. Гроза, обращавшая нас в пустыню, безмолвная гроза. Но кто же мы после этого, как вновь очутиться в своем кругу, как любить того, кто в продолжение этого ужасного мгновения любим не был?
Полагаю, он навевает на нас мечты, которые нас будоражат, обманывают, из-за которых мы открыты подозрениям о некой мысли, что вряд ли дала бы себя подумать. Часто я спрашивал себя, не сообщает ли он нам, без своего ведома и вопреки нашему согласию, что-то из этой мысли. Я вслушивался в эти такие простые слова, вслушиваюсь в его молчание; я все более сведущ в его слабости, я кротко следую за ним, куда ему угодно, но он уже погубил, изгладил любопытство; я не знаю, кто я, его вопрошая, такой; он оставляет меня в еще большем неведении, оставляет опасно переполненным неведением. Может быть, мы не испытывали к нему должных чувств, каковые подпустили бы ближе то, что он нам открывал. Каких таких чувств? Что могло во мне к нему родиться? Жутковато вообразить, что нужно было почувствовать нечто мне неведомое, что меня связывали порывы, о которых у меня нет ни малейшего представления. Верно, по крайней мере, следующее: я никогда не стремился подметить в себе эти новые чувства. И, коли он был там, простота его не соглашалась ни на какую странность, ни на что, чего я не мог бы сказать также и о ком-то другом. Словно тайное правило, которое я был обязан соблюдать.
Читать дальше