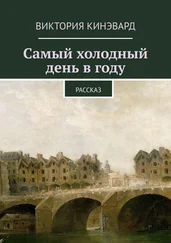Комната залита светом, чехлы на креслах белые, и дерево шкафов тоже светлое. Как можно жить при таком ослепительном свете? Должно быть, от этого-то он и заболел.
— Я надеялся, все еще может исправиться, — говорит Космович и отворачивается.
Вначале я вижу его профиль, длинный, с горбинкой нос, слегка одутловатое лицо, затканное мелкой сетью морщин — так увядает тонкая кожа. Он оборачивается ко мне. Невыбритый подбородок с пепельно-седой щетиной, воспаленные светло-голубые глаза. Может, они потому кажутся такими голубыми, что он стоит на слепящем солнце, от которого я защищаю глаза козырьком руки.
— Что же может исправиться? — спрашиваю я. — События, люди?
— Да все, — нетерпеливо отвечает он.
Наверное, его раздражает мой взгляд, думаю я, пересекаю комнату и подхожу к окну.
За окном последние этажи и мансарда дома напротив, слуховые окна отражают солнце. Белая кошка крадется по блестящей мокрой крыше, а сзади — почти неузнаваемый — зубчатый купол цирка.
— Я надеялся, что в конце концов все вскроется, выйдет на поверхность, — бормочет он. — Что я смогу помочь людям стать добрее, что взаимоотношения между нами и руководством улучшатся, и все прочее — тоже. В этом и заключалась моя общественная роль, и я надеялся, что смогу ясно выразить свои взгляды и что мои взгляды будут в согласии с обществом.
Он скатывает шарик из какой-то бумаги и сует его в карман; я не спрашиваю, что это, потому что знаю: это Решение. Он всегда говорил свободно — чуть манерно, но очень свободно, — он был создан для университета, подумал я, как жаль, что профессор за него не вступился, как жаль, что он с такой легкостью принял Аркана и потом не сделал попытки вернуть Космовича на кафедру…
— Но ведь… — пытаюсь возразить я и замолкаю.
У рыбного ресторана мы переходим на другую сторону. Гудки машин, шаги прохожих слышны приглушенно, как сквозь войлок.
— Но ведь, — повторяю я, — но ведь…
Однако он не слушает, он привык к тому, что собеседник слушает его, и он перебивает меня высоким усталым голосом:
— …Может, я и заболел, когда мне показалось, что это не так… когда мне показалось, что не существует ни законов, ни прогресса, что все — хаос…
— Но ведь, — упрямо повторяю я, — но ведь мы… наше поколение, то есть, значит, я, я никогда в такое не верил… Я думал, что мир, люди вокруг, как бы это сказать… равнодушны.
— Да, вы так думаете… если думаете, когда думаете, — говорит он враждебно. — И потому вам удается быть здоровыми…
— Нет, это не так, — пытаюсь возразить я. — Что касается меня, то это не так…
Я говорю, пока он переводит дыхание и молчит.
Но он прибавляет шагу, он обогнал меня на полметра, и я все пытаюсь его догнать. Мы говорим, говорим высокопарно, и я замечаю — так уже не раз бывало, — что предмет разговора отдаляется, становится обтекаемым. Мы оба пребываем в области литературы, я знаю это, и он тоже, конечно, знает, и очень скоро от всех этих словес нам станет тошно.
Он вдруг замолк, в нем снова появилось что-то отталкивающее, он рассеянно посматривает на часы.
— Вы спешите? — спрашиваю я.
— Да, — говорит он, оглядываясь по сторонам, и садится в первый же пустой троллейбус. С подножки он машет мне рукой. И тут я жалею, что не попросил его пойти со мной в больницу, потому что он знает, как туда пройти; я пытаюсь крикнуть, но мой голос едва слышен — на улице такой шум, да и троллейбус уже завернул за угол…
— Я профорг, — говорю я чернявому вахтеру. А он, как будто не слышал, смотрит на меня мрачно.
— Я профорг, — повторяю я. — У меня деньги для товарища Марги…
И поскольку он не откликается, я, набравшись храбрости, прохожу мимо него, мне даже не верится, что он меня пропустил, запыхавшись, я спускаюсь, поднимаюсь по путанице больничных лестниц и наконец оказываюсь в огромном мрачном зале. Но и здесь слепящий свет и столько белых постелей…
Человек средних лет, сгорбленный, шаркает по коридору; доходит до конца и возвращается, осторожно неся в руке прозрачный мешочек с прозрачной, розоватого цвета мочой.
Больная словно не узнает меня, да и я ее не узнаю, хотя двадцать лет она была секретаршей в нашем учреждении. По ее виду не скажешь, сколько ей лет — между сорока и шестьюдесятью пятью: ровно подстриженные седые волосы, большой рот с посиневшими губами мучительно растянут, в уголке что-то беленькое — засохшая пена или остатки порошка? Я стою в стороне и не решаюсь ее окликнуть — чувствую, что ей трудно повернуться.
Читать дальше

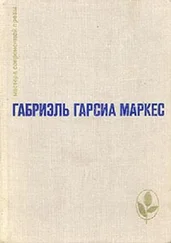






![Василий Орехов - День независимости [рассказ] [СИ litres]](/books/400407/vasilij-orehov-den-nezavisimosti-rasskaz-si-li-thumb.webp)
![Вячеслав Протасов - Мы живем на день раньше [Рассказы]](/books/421425/vyacheslav-protasov-my-zhivem-na-den-ranshe-rasskaz-thumb.webp)