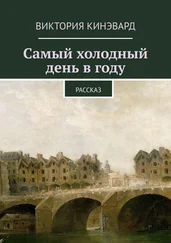Да, видно, позиции Оницою пошатнулись, думает Петрина. Он ведь и начальником отдела был всего шесть месяцев, хотя работает у них двадцать лет — еще с тех пор, когда и нового здания не было… А что же ей-то делать — рассказать или не рассказывать Пэтрашку об этом разговоре?
— Дойти до того, чтобы попирать все, вплоть до жизни ближнего, — лишь бы взобраться повыше… Но как высоко можно подняться? Ну даже если станешь директором — и что? Должность, при которой у тебя нет никакой власти; ты в тысячу раз свободнее, пока ты рядовой, — продолжает Оницою.
Глаза стареют последними, но и они тоже старятся — кто сказал это Петрине? Может быть, тетя Клаудия, да, больше некому — ведь это она каждое утро по два с половиной часа проводила перед зеркалом: делала маски (медовая, желтки с лимоном, персиковая), пудрилась и красилась, чтобы скрыть отечность и желтизну лица. Глаза стареют последними, но и они тоже старятся, говорила тетя Клаудия Петрине. Она, как всегда, сидела перед туалетом, загроможденным черными коробочками, серебряными стаканчиками, щетками для волос с инкрустированными ручками, пустыми флаконами из-под французских духов, бусами, кривыми старыми браслетами. Желтоватое зеркало, туманное — тоже от старости, — покрывал, как и весь туалет, плотный слой пыли. Глаза уменьшаются, становятся водянистыми, начинают слезиться, злобно говорила Петрине тетя Клаудия; руки в черных перчатках надвигали черную шляпу с полями в ковбойском стиле на покатый лоб — их фамильная черта. В те времена тете Клаудии было пятьдесят девять лет, но на улице в сумерках ей давали тридцать семь. И Петрина, которой тогда было девятнадцать, поняла, что на самом деле хотела сказать тетя Клаудия; она хотела сказать: придет время, и ты постареешь, и у тебя глаза постареют. Хоть и поняла Петрина, но не поверила, засмеялась, словно шутке; да и сейчас не верит. Вот и у Оницою глаза не постарели, голубые, проницательные, блестящие, а когда он говорит, глаза будто затуманиваются.
— Потому он и не спешит разводиться… Чтобы в отдел кадров не пришла бумага, что брак расстроился по его вине, и чтобы не воспрепятствовала эта бумага его продвижению…
Облака столпились на западе, их волнистые контуры отчетливо обозначились на золотисто-розово-зеленом фоне неба. Сумерки вырезали на нем очертания жилых домов и чуть в стороне — церковь. Церковь новая, повыше сотен церквушек, спрятавшихся под сенью белых акаций, с надписями на низких притворах, с облупившейся почерневшей фреской на холодной стене, — этой церкви не больше двух-трех сотен лет, однако исстари в годины бед, землетрясений и пожаров сюда сходились люди, чтобы помолиться в стоявших на этом месте храмах. Между домами и церковью трепещет и сверкает теплый клочок неба, шелковистый, розовооранжевый, ясный.
— Отчего же по его вине? Отчего только по его вине? — решается спросить Петрина.
Ее плечи под пиджаком Оницою дрожат от холода, от усталости, от возмущения. Она давно уже перестала обдумывать его доказательства, а может, и не пыталась их обдумать. Она чувствует только нарастающую ярость и необходимость ему возразить.
— Не один он виноват, и его жена…
Но, посмотрев на Оницою, осеклась.
— Как? — Оницою даже запнулся от возмущения. — Как это — не он виноват? А кто же виноват-то? Она долго терпела, но всему есть предел, он заставил ее вести себя так нарочно, чтобы в глазах людей она выглядела виноватой…
Как, в самом деле, как? Как можно настолько ослепнуть, как можно быть такой упрямой? Почему она не хочет видеть? Ведь он все ей рассказал про Пэтрашку, да еще не один раз, раскрыл всю его подноготную — как же могла она найти ему извинения, решить, что он не виноват? Как, в самом деле, как? Здесь уж не слепота и не наивность. Он прав в своих подозрениях, конечно же, прав! Нет, надо сказать ей все, все, что он знает…
Сказать ей все, что он знает о Пэтрашку, о его романах, о случайных связях — все, что он слышал от самого Пэтрашку или от кого-либо еще, все, до самых мелких, мельчайших подробностей, какими бы тягостными или отталкивающими они ни были, чтобы и она в конце концов возмутилась. И он говорит, время от времени останавливаясь, чтобы перевести дыхание, глотнуть пива, и продолжает. О, это невозможно, хоть сейчас он должен убедить ее, найти трезвые аргументы (голова у него трезвая, и он как всегда прав), найти место для удара — чтобы разбить ее слепую веру. Веру, интерес или смиренную любовь? Он сидит согнувшись, скрючившись, и внутри у него что-то стучит, как метроном, отмечая (по взгляду девушки, по ее мимике, по нервному движению рук), попал или не попал он в цель. Поздно, слишком поздно сворачивать с этой дороги, да он и не хочет. Он зовет официантку и просит ее принести еще пива, предлагает Петрине поменяться местами — потому что дует — и с помощью разных мелких уловок и пауз норовит продлить разговор. И каждая новая пауза заряжает его нетерпением, будто выбивая из этого состояния с трудом обретенного блаженства; он дрожит, голос у него хрипловатый, рот кривится в ухмылке, голубые глаза блестят так, что кажется, будто он плачет. Пока он говорит, поступки Пэтрашку становятся ему яснее, впечатления о нем складываются в единую картину; абсолютно точное доказательство, в котором присутствуют все звенья и каждое слово поверено услышанным или подтверждается его собственным наблюдением. И глаза Оницою настороженно всматриваются в лицо девушки, отмечая удивление и боль, которые она мгновенно стирает, прячет под непроницаемой маской. Удар нанесен — он это чувствует явственно, и тем не менее она оказывается более стойкой, чем можно было предположить. В ее молчании сквозит недоверие к тому, что он говорит, и благоразумная хитрость — нежелание перечить, и все та же яростная слепота, приводящая его в отчаяние. Потому что еще немного — и в своей откровенности он дойдет до крайней черты, хотя, может, и этого, и вообще всего, что бы он ни сказал, будет недостаточно.
Читать дальше

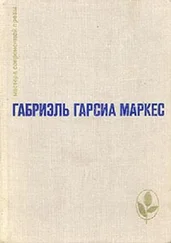






![Василий Орехов - День независимости [рассказ] [СИ litres]](/books/400407/vasilij-orehov-den-nezavisimosti-rasskaz-si-li-thumb.webp)
![Вячеслав Протасов - Мы живем на день раньше [Рассказы]](/books/421425/vyacheslav-protasov-my-zhivem-na-den-ranshe-rasskaz-thumb.webp)