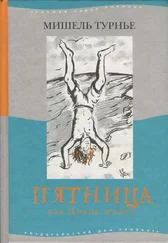На самом же деле, по моим наблюдениям, Жерве было тридцать шесть и десять лет назад, когда мы с ним познакомились, и еще раньше, не исключено, что он уже родился тридцатишестилетним. Просто всегда он выглядел моложе своих лет, а теперь вскоре будет выглядеть старше, а с годами — намного старше.
Каждый мужчина должен всю жизнь пребывать в своем «лучшем возрасте» — тянуться к нему, пока не достиг, и удерживаться в нем, когда уже перешагнул. К примеру, Бертрану всегда было полновесных шестьдесят, а Клод обречен навсегда остаться семнадцатилетним пареньком. Что до меня, то я вечен, я — лишь зритель драмы ветшания, который с чуть грустным безразличием наблюдает один за другим расцветы и упадки очередных поколений, как лесная скала — круговорот времен года.
Общение с Жерве одарило меня еще одной идеей, свежей и вдохновляющей. Жерве не что иное, как сверхприспособленец. Медицине надо бы получше изучить данное явление, а педагогам впредь поостеречься: как бы в стремлении научить детей приспосабливаться к любым обстоятельствам, невзначай не воспитать из них таких вот сверхприспособленцев.
Сверхприспособленцы чувствуют себя в привычном окружении как рыба в воде. Рыба сверхприспособлена к жизни в водной среде, но ведь ее благополучие целиком зависит от качества воды. Попробуйте-ка поместить ее в более теплую, чем она привыкла, воду или в более соленую, или, скажем, водоем вдруг обмелеет… Выходит, что лучше быть не сверх, а просто приспособленным к среде, как, например, амфибии, которым не слишком-то уютно ни в воде, ни на суше, но и там и сям они могут выжить. Не желаю Жерве беды, но существует опасность, что, стоит судьбе нанести ему удар, нарушить привычный образ жизни, и Жерве уже трудновато будет вновь войти в колею. А вот мы, амфибии, умеющие сидеть разом на двух стульях, привычные к переменам, снесем любое изменение среды.
4 ноября 1938. Всякий раз, когда прохожу мимо Лувра, я себя корю, что редко там бываю. Жить в Париже и не ходить в Лувр, бред какой-то! Я не был там целых два года, и вот сегодня вечером наконец собрался. Наиболее зримым обретением стало осознание значительности произошедшей во мне перемены. Тому свидетельство — хотя бы изменение моих пристрастий.
Не понимаю людей, ухитряющихся стерпеть без слез сияние, излучаемое этим скопищем шедевров. Как завораживает архаический Аполлон с острова Патмос! Чарует несоответствие между величавой позой тела — монолитного, словно колонна, со сросшимися ляжками, прижатыми к торсу руками, — и загадочной улыбкой, коснувшейся его просветленного лика, нежность которой лишь подчеркивают шрамы, избороздившие мрамор.
Представляю, какой бы стала моя жизнь, если бы этот бог в меня вселился, направлял денно и нощно. Да нет, я совершенно не способен представить, как бы я вынес жар этого метеора, который рухнул к моим ногам после двухтысячелетнего падения. В этой статуе воплощена главная цель искусства: хоть чуточку утолить страдания наших душ, измученных временем, точнее — его разрушительной силой, смертностью всего живого, неотвратимостью гибели всего, что нам дорого, — прикосновением к вечному. Потому творения искусства — лучшее для нас лекарство, долгожданная тихая гавань, глоток воды в безводной пустыне.
В античных залах я дольше всего разглядывал скульптурные бюсты, обращаясь ко всем этим лицам, столь явственно выражавшим ум, честолюбие, жестокость, самодовольство, реже — доброту, благородство, с одним и тем же вопросом, с тем самым, который всегда остается без ответа: какого действа вы, маски, порождения какой жизни, какой культуры?
По остальным залам я просто пробежал, задержавшись всего перед несколькими картинами, которым я вот уже пятнадцать лет считаю необходимым наносить своеобразные визиты вежливости, чтобы проверить свои от них впечатления, таким образом познав собственные перемены, ибо нет зеркал точнее. Можно сказать, что в Лувре я проводил те же опыты, которыми так увлекался Нестор, старавшийся в различных помещениях Св. Христофора определить степень сгущения. Атмосфера этих залов, густо насыщенная красотой, меня опьяняла, порождала чувство, сходное с форическим экстазом. Узор, который я терпеливо складываю из множества невнятных деталей, обогатился еще одной.
На обратном пути, проходя через турникет, я обратил внимание на мальчугана, о чем-то бурно препиравшегося с билетершей. Я тотчас понял предмет этого безнадежного для паренька спора. Дело в том, что мальчик захватил с собой фотоаппарат, а съемки в музее стоили полфранка, каковыми он не располагал. Значит, аппарат следовало сдать в камеру хранения, что стоило те же полфранка. В конце концов, мальчуган признал свое поражение и был вынужден отступить. Тут я, разумеется, счел своим долгом ему помочь, но не «по-взрослому», то есть попросту заплатив положенные пятьдесят сантимов, а романтически, авантюрно. Я не поленился вновь миновать турникет с карманом пиджака, оттопыренным контрабандным товаром в виде фотоаппарата.
Читать дальше