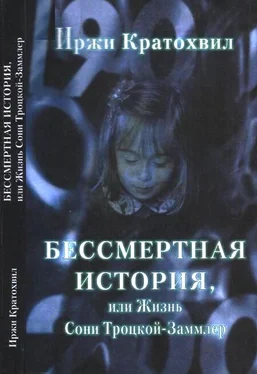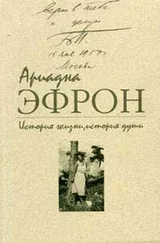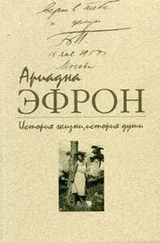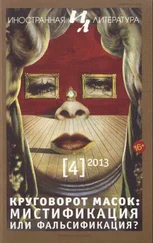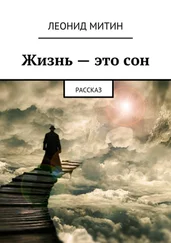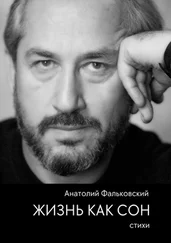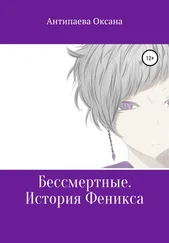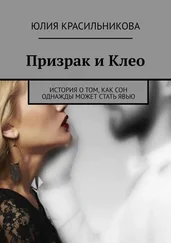Спустя месяц после похорон (в тот день тоже шел снег) по желанию господина инженера на могиле Альжбетки воздвигли совершенно необычный крест и очень странный памятник. Но для того, чтобы понять, что же в этом кресте необычного, вам надо было подойти поближе, и тогда вы замечали, что распят на нем не Христос, а ребенок, маленький ангелочек. Я не была уверена, что такое вообще можно делать, понимаете, я не знала, дозволяют ли церковные каноны распинать на кресте вместо Христа ребенка. Но я вновь сказала себе, что богатые люди могут все (точнее, почти все). Однако же я все равно не понимала, зачем господину инженеру понадобилось, чтобы его дитя (ибо этим ангелочком вне всяких сомнений была Альжбетка) висело вот так вот у всех на глазах. Мне даже подумалось, что он втайне ненавидел свою дочку и что после смерти ему захотелось пригвоздить ее к позорному столбу. Но я, разумеется, быстро прогнала эту мысль прочь, и вскоре у меня появилась возможность убедиться, что он, напротив, очень любил Альжбету. На ее памятнике было высечено изображение в барочном духе: три маленькие шаловливые смерти танцевали, взявшись за руки, а одна из них, обернувшись через плечо, смотрела вам прямо в глаза и щерилась в неповторимой улыбке скелета.
Из окон класса нам были видны и Альжбеткин крест, и памятник, так что казалось, что она действительно осталась с нами, и во время урока мне частенько случалось, отвернувшись от доски, на которой я выводила каллиграфические буквы, заставать своих учеников и учениц глядящими с замиранием сердца в окно, на заснеженное кладбище. Вы этого и добивались, господин инженер? Однако, как ни странно, я ни разу не задала ему этого вопроса, хотя, как вы еще услышите, у меня было множество случаев сделать это.
Ведь мой рассказ об Альжбетке только начинается.
Закончился мой первый год в школе на Антонинской, и наступило лето, о котором батюшка имел самые четкие представления. Он, видите ли, намеревался свозить нас в Подкарпатскую Русь, в одну деревушку неподалеку от Мукачева, которая называлась Щор, в ней жил Василь Дюрий, давний батюшкин приятель-кочегар, ездивший с ним когда-то по Фердинандовской северной железной дороге; после же Дюрка, как звал его батюшка, перевелся на Венгерско-Карпатскую дорогу и ездил по ней далеко-далеко, в Буковину и Трансильванию, это королевство оборотней и упырей.
Но батюшка, разумеется, не намеревался собственноручно вести поезд, который должен был доставить нас в Подкарпатскую Русь, ибо в этом случае у него недостало бы времени на жену и дочь, он ехал вместе с нами как пассажир, однако же нас всячески опекала поездная бригада — от машиниста до кондуктора, потому что все батюшку отлично знали и очень его любили, ведь это была одна дружная железнодорожная семья еще со времен Австро-Венгрии. Они даже условились между собой на протяжении всего нашего пути носить в честь батюшки парадные униформы с блестящими золотыми пуговицами.
И вот в день святого Прокопа, 4 июля, мы сели в поезд, который после долгого путешествия, осененного золотистыми отблесками пуговиц на формах железнодорожников, как по тропинке, усеянной дукатами, привез нас в край подкарпатских равнин, где жили русины, один из свободных народов Чехословакии.
— Дюрка больше не работает паровозным кочегаром, — объяснял нам батюшка по дороге, — но занимается кое-чем подобным, он жжет дрова на угольных кострах, таким образом — тут батюшка повернулся в мою сторону, предположив, что мне как учительнице подобные знания пригодятся, — таким образом в Карпатах еще и нынче добывают древесный уголь. Я заблаговременно известил Дюрку о нашем приезде, но писать он никогда не любил, так что ответа от него не было. Однако, насколько я его знаю, — добавил батюшка, обращаясь на сей раз к матушке, — он уже с нетерпением нас дожидается.
И оказалось, что отец был прав. Когда, отъехав немного от Мукачева, мы остановились на полустанке, от которого до Щора было еще не меньше двадцати километров, Василь Дюрий уже ждал нас. Он дрых на груде бревен, причем одно из них было без коры, и на нем красовалась выведенная дегтем приветственная надпись — большими русскими буквами: Да здравствует Троцкий!(Да уж, может, он и не очень любил писать, но если уж писал, так писал!)
Лев и Василий (батюшка и Дюрка) обнялись, и борода русина немедленно и очень охотно обвилась вокруг батюшкиной шеи. Потом выяснилось, что у Васьки тут выносливый горный конь, который привык подвозить дрова к угольным кострам. Мы привязали ему на спину наш багаж и даже усадили матушку, а после наконец двинулись в путь.
Читать дальше