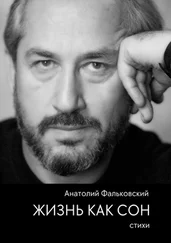Тем самым, дорогие мои, вы напомнили мне, что кое о чем из своего путешествия в Вену я вам не расскажу, даже если вы станете умолять меня об этом на коленях. Кое-что я сохраню для себя, а именно — как я ходила на берег Дуная, к тому месту, где четырнадцать лет назад произошло несчастье с Бруно. Это, как вы, несомненно, понимаете, мое глубоко личное дело, которое вас совершенно не касается, поэтому позвольте мне постоять там какое-то время в одиночестве, не отрывая глаз от реки, что омывает берега наших сновидений, оставляя по себе розоватую слизь нашей боли (в Вене, этой испытательной станции конца света ).
Когда поздно вечером 28 июля 1914 года мы возвращались домой, я не без оснований боялась, что мы не попадем вновь на ту самую стрелку, которая вернет нас в лучший из возможных миров, но эта тяжесть свалилась с моих плеч, едва я увидела фасад дома на окраине Вены с торчавшей из стены огромной картонкой с надписью «Слабительное Петерки — мир вашим внутренностям!»
А когда мы вышли из поезда на вокзале в Брно, город уже был весь обклеен объявлениями, у которых толпились люди. Батюшка подошел к одной такой группке и бросил свой зоркий, как у стрижа, взгляд машиниста на текст.
Император объявил войну, сообщил он нам потом в недоумении. Он пребывал в растерянности. Как это: началась война, а в Вене еще ничего не было известно? Почему они там ни о чем не знали? Разве Брно — рупор Вены?
А вообще батюшка был очень доволен тем, что мы так замечательно успели съездить в Вену. Ведь кто знает, как теперь будет обстоять дело с венскими поездами. «Война — это великое слабительное истории», вспомнил он вдруг, хотя и не смог сразу сообразить, принадлежат ли эти слова Бисмарку, Клаузевицу или завсегдатаю кафе Ульянову-Ленину, которого мы еще вчера застали над шахматной доской в «Кафе Сентраль», и мне это показалось логичным: «Слабительное Петерки — война вашим внутренностям!» Слабительное — это ведь скорее война, чем мир.
Перед сном я извлекла из-под кровати макет Вены и долго в задумчивости смотрела на него. Теперь я его уже никогда не закончу. Потому что Вена, которую я начала строить, с сегодняшнего дня перестала существовать. В этом у меня не было никаких сомнений. Austria delenda est! Я поняла, что когда я поеду туда в следующий раз, то есть на самом деле поеду, это будут уже другая Австрия и другая Вена.
Когда же опять грянул учебный год, война шла уже вовсю, и каждый день перед уроками всех нас выстраивали в школьном дворе, где мы должны были трогательными детскими голосками выводить то же самое, что выводили тогда перед Шенбруном венские школьники:
— Сохрани, Господь наш Боже,
императора и весь наш край!
А после занятий мы снова выбегали во двор и опять пели до изнеможения. И вот так наши голоски каждый день пробивались сквозь густые кроны деревьев, облака и другие атмосферные явления, чтобы — слегка ощипанными — предстать перед ликом Господа. Но, хотя это и были голоса невинных младенцев, Господь, кажется, внимал им не слишком благосклонно, так что за четыре года государь император, его семейство и его генералы проиграли войну, а батюшка приехал с фронта в Галиции на разбитом паровозе, с дурными сновидениями и навсегда изверившимся в любых добрых монархах.
В свои девятнадцать лет я была (о чем свидетельствовали овальные и прямоугольные фотографии в матушкином бархатном альбоме, где-то теперь последние страницы этого альбома? я веду свой рассказ с пустыми руками, ничего-то у меня не осталось, никаких мелочей, связанных с прошлым, все я по дороге порастеряла, все куда-то сгинуло, и об этом я вам, само собой, когда-нибудь поведаю, только не торопите меня, все со временем и по порядку) привлекательной девушкой, студенткой Педагогического института. До того я окончила в Брно частную школу под названием «Весна», где меня обучили всем женским ремеслам и премудростям и превратили — причем, видит Бог, под знаком Светоча, чей гигантский барельеф до сих пор красуется на фасаде моей бывшей школы, — в замечательную повариху, для которой мешалка и половник являлись символами королевского достоинства, а кроме того, в этой же самой «Весне» меня обучили нескольким балетным па, припомнив которые, я, очевидно, должна была бы однажды подтанцевать к своему брачному ложу, а к моим немецкому и русскому добавились еще основы французского, столь необходимые возле корыта и валька, к урокам же игры на фортепиано, взятым мною у мадам Бенатки, — умение перебирать струны лютни, так что, милые мои, когда Педагогический институт внушил мне вдобавок еще и некоторые идеи всемирно известного педагога Коменского, в моей голове они самым странным образом ужились с общественным катехизисом Гута-Ярковского и всемирным кулинарным евангелием кухарки-патриотки Магдалены Добромилы Реттиг.
Читать дальше