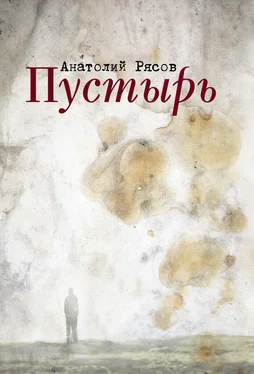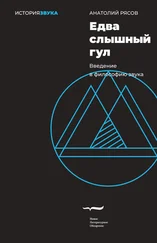И сам Лукьян чувствовал, что, сколько ни старался, но приносил прихожанам вовсе не страх, а удовлетворение, и от этого он начинал презирать их еще больше. В момент отпущения грехов Лукьян всегда примечал проступавшую сквозь их лица жуткую идиотическую усмешку. Он ни на секунду не верил гримасам вымученного внимания и сухим вздохам, изображавшим умиротворенность и смирение. Слишком уж плохо были сыграны эти роли, слишком грубы были поношенные маски из тонкой резины, бегло конспектировавшие скудную повседневность. Их физиономии напоминали засиженные мухами фотографии, забытые в уголках зеркал пыльных прихожих. Конечно, они уходили с исповеди такими же пустыми, какими и были до прихода. Но, в конечном счете, священнику казалось, что после этих встреч они уходили победителями, он же ощущал себя поверженным. Ведь карающая длань наставника становилась лишь неуместным вкраплением в эти оханья, отчего сами исповеди превращались в какие-то праздные соседские сплетничания, выставлявшие весь ассортимент избитых фраз, и вовсе не походили на суровый приговор инквизитора. Его каверзные вопросы о вере или крещении никогда не находили ответов, как правило, люди толком не понимали, о чем он их спрашивает. И Лукьян ненавидел это тупоумие, ему казалось чудовищным, что все его сомнения, муки и душевные судороги были незнакомы этим болванам. Само назначение исповеди, таким образом, утрачивалось сразу с обеих сторон: и со стороны исповедовавшегося, приходившего вовсе не к тому, кто освятит покаяние, и даже не к дарующему прощение, а лишь к тому, кто по долгу службы вынужден будет выслушать его историю; и со стороны священника, занимавшегося вовсе не врачеванием душ, а вымещением собственной желчи и злобы, – смысл стремительно покидал эту форму духовного общения, превращая ее в странный архаизм. У Лукьяна на душе становилось всё чернее, потому что и себя он ощущал кем-то вроде торговца, пытающегося выдать подделку за древнюю рублевскую икону, но при этом утешающего себя, что делает это ради благой цели – восстановления подлинных религиозных чувств.
Все эти ощущения всё больше толпились в нем и беспорядочно спутывались в косматый клубок. Мысли, как ощетинившиеся гвозди, раздирали его череп изнутри, не оставляя никакого места для покоя. Крохотными шильцами острых жал они ковыряли его мозг. Самому себе он начал казаться дерганным, истерзанным сомнениями, никоим образом не годным к исповедованию. Не в силах отыскать выхода, Лукьян всё больше накапливал злобу. Иногда ему даже казалось, что само желание обращать окружающих в свою веру вызрело из этой злобы, из потребности заставить их испытать его собственные муки. Он не знал, что делать со всей этой мирской мерзостью, которая сотнями лет скапливалась по углам, и вот настал тот час, когда она начала бесконтрольно вываливаться в рыхлое и бесхребетное пространство, как разъеденные сыростью куски облупившейся штукатурки. Изо дня в день священнику всё больше казалось, что его разум ускоряет движение в гонке напряжения, стремительно направляясь к непредсказуемой катастрофе. Священник чувствовал, что еще недолго – и он оступится, споткнется, упадет в одну из расходящихся под ногами трещин.
Внезапно ход мыслей священника нарушил дикий крик, заставивший лицо Лукьяна скорчиться от неконтролируемой дрожи отвращения. Навстречу ему шел Игошка – местный юродивый. А за ним как обычно плелся его оборванный пес. Лукьяну всегда был неприятен этот грязный неотесанный мужик с глазами плута. Но еще больше его раздражала та нелепая атмосфера незаслуженной привилегированности, создавшаяся вокруг юродивого с самого детства и не оспариваемая никем: угостить его и его пса хлебом было само собой разумеющимся, привычным делом, хотя любому другому прохожему не дали бы и крошки. Титул блаженного сделал Игошу едва ли не святым в глазах невежественного населения деревеньки. Его ноздрятая физиономия словно состояла из двух половин: одна доверительно заглядывала тебе в глаза, а вторая по-кошачьи хитро косила куда-то в сторону. Для Лукьяна оставалось загадкой, почему никто, кроме него, не способен был распознать скрываемую за маской дурашливого простофили с разинутым ртом его истинное лицо: пройдошливого, «себе на уме», двуличного хитреца, прикидывающегося то рассеянным, то сумасшедшим, то ребенком, то скособоченным паяцем.
Столкнувшись с этим лукавым, острым, как будто царапающимся взглядом, Лукьян Федотыч всегда погружался в какую-то болезненную тоску, но в эту минуту встреча с ним показалась святому отцу особенно неприятной. Игошка же, увидев священника, быстро побежал к нему навстречу и, захлебываясь смехом, закричал: – Шо, неужли живой ишо? Ну, крути-крути колесо, раскручивай! Да посильнее вращай! Жги, шоб облака полыхали ватные! – Взгляд Лукьяна исполнился неприязни: – Да что ты бормочешь-то, миряк, вечно? Чего дразнишься? И откуда понабрался поговорок-то этих? – Юродивый тут же сощурил косые глаза и, искрив рот, зашипел: – От Бога, видать, батюшка, от Господаря, не иначе. Больше и неоткуда. Просто никто-де его Игошку, волховского сына, не учивал, никто больше. Так и знай, Лукьян Федотыч, так и знай! – И не устал чепуху свою молоть-то? – Да я молю-умоляю, чтоб ты услыхал хоть что-то в требухе этой! А то ведь, когда всё перемелется, мука вечная только и останется! – Священник вздохнул, нервно пощипывая свою мочалистую бороденку, и, решив, что это самый подходящий момент двинуться дальше, прошипел: – Вечно ты, бездельник, ко всем цепляешься! – И уже прибавил шагу, как вдруг Игошка вприпрыжку обогнал его и начал скакать прямо перед его носом: – А ведь славно, шо тебя сего дня встретил, батюшка. Слово тебе вымолвить бы надобно. Вотшо сказать-то хочу. Сон мне тут даве пригрезился. Провидческий! Это я точно знаю, шо провидческий! И не спорь даже! Так вот. В каморке своей близнеца я встретил. Это тело гибель учуяло. Это, брат, душа моя, может, из плоти выйдя, за телом этим окаянным наблюдает. А во мне уже вот души-то нет. Тело умирает, но и душа моя погибнет без тела, застудится. Но близнец не только ко мне пришел. Ожидай и ты гостя из зеркала. Мой мне передал, шо и за тобой пожалуют, чтобы не обидно было. И полгода не пройдет, как свидитесь. Даже зима еще толком рукава засучить не успеет. Отзвонил, да и с колокольни. Так что плачь по себе, молись теперь, шоб во смерти пустошь была, а не муки вечные. Вот уж небытия вкусить – не поперхнуться бы. Грусть-свинья в тебя дунет духом. – Да что ты балабонишь-то, полоумный, сам-то хоть понимаешь? Как у тебя слова во фразы-то складываются? Али, первое слово сказав, уже забываешь смысл его и не знаешь, как второе к нему приладить? – Разумею, брат, раз умею. А вот ты, видать, не очень пока понял-то. И правда, тяжело ж тебе, видать, всех подряд исповедуешь, а самому грехи выплеснуть-то и некуда. И прищур ведь твой мне всегда непригляден был. Болтаешь с людьми, а сам – будто в карты мухлюешь. И как живешь-то ты, вот чего понять не могу? За что душа-то там в тебе до сих пор зачепляется?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу