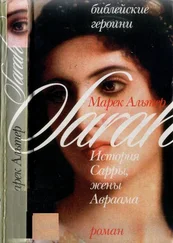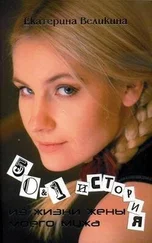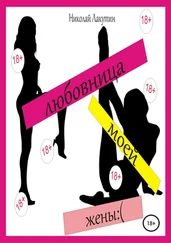Между тем в студии этой не было ничего особенного. Самая обыкновенная театральная школа, курсы по подготовке кинофильмов — таких в больших городах десятки. По моим сведениям, мадам Пуленк организовала школу для своей сестры, болезненной женщины, балерины на пенсии. Там можно было обучаться танцам, изящным движениям, а главное — любви.
Перед домом шикарные автомобили, в коридорах шныряют молодые господа, некоторые из них даже в цилиндрах… Из-под полуопущенных ресниц, словно вода, холодно поблескивают глаза, ведь эти господа — особой, избранной породы, они неохотно дают понять, что замечают тебя.
О, знаю я, сколь завораживает это волшебство: любезничать с какой-нибудь Персефоной в темном зрительном зале, во время репетиций! Пока идет действие, барышня и сама задыхается от переполняющих ее классических страстей — знаю, что во все времена это было любимым развлечением знатных господ. Но чтобы здесь бывала та, кого я любил, чтобы она находила в этом удовольствие?..
Это одна сторона дела, а другая заключалась в следующем:
Близость или отдаленность события в подобных случаях одинаково играют на нервах человека. Все это случилось словно вчера и все же куда оно уже ушло, это вчера? В непостижимую даль, как уходят умершие. Туманная дымка отделяет нас от прошлого, путаница, хаос, наверняка вызванные теми ночами, когда я без сна ворочался в постели, или же теми вечерами, когда я вместе с упомянутой мудрой сеньоритой с короной роскошных волос разгуливал по одной из украшенных агавами аллей и, приподняв шляпу, раскланивался с господами, проносящимися мимо в своих легких колясках. Странная штука человеческая жизнь, быстротечная и неуловимая! Пожалуй, вернее всего будет уподобить ее единому вздоху. Кто поверит, к примеру, что в Южной Америке я носил бороду? Что содержал любовницу, ту или иную латиноамериканку или какую другую иностранную красотку. Они и отошли в дальние дали.
И все же, хотя столь многое теперь разделяло нас с женой во времени, с ней самой в душе моей ничего не происходило. В неком заколдованном царстве, немом и недвижном, она обреталась близ моего сердца, где-то в соседней комнате, скажем так. Стоило только туда войти, и она была там, погруженная в ничем не нарушаемую тишину, и читала свои заумные книжки. И лишь сейчас, после стольких лет, выяснилось, как обстоит дело со мной, и наверное, потому, что мне до такой степени не хотелось вспоминать ее. Оказалось, что мне приятно было бы отсюда заглянуть ненадолго в «Брайтон», сесть за свой столик в углу, где спина защищена стеной, и оттуда вновь вернуться домой, разложить перед собою свои обширные ведомости да реестры и погрузиться в работу при свете лампы под круглым абажуром.
Вот из-за чего, собственно, я все это рассказываю.
Ее роковую близость чувствовал я и тогда, в тот день. Ведь все же в ее руках была моя жизнь в этом городе, не следует забывать, что именно она выцарапала меня у смерти. Я неотступно думал об этом, и передо мной возникала одна и та же картина, о которой я ни разу не вспоминал с тех пор: я болен и притворяюсь, будто сплю… Да-да, все так и было. Мне хотелось, чтобы она хоть немного отдохнула. Но она все-таки проверяла, как я, что со мной, низко склонялась над постелью, и к лицу ее приливала кровь. А в глазах застыло выражение глубокой озабоченности.
Значит, все-таки она любила меня — вот что хотел я доказать себе, каждой вспышкой чувств. Хотя тогда я уже вышел на улицу. На душе было до того хорошо, благостно, точно озарило ее горним светом.
От минутной, мимолетной надежды, что жена все-таки любила меня.
И это, конечно, беда, и немалая: что я по-прежнему чувствую себя на седьмом небе от одной этой мысли!
— Уймись, глупый болтун! — попытался я вновь отогнать ее от себя. Но тщетно.
Ведь говорю же, не знаю, что бы я отдал сейчас за возможность вернуться домой, как прежде. Не куда-нибудь еще, а только туда. То бишь к ненавистным крышам, над которыми перед закатом кружат белые голуби.
А тут еще это убогое предрассветное кафе с Лиззи и Додофэ. Вот почему я запер накрепко, причем окончательно, дверь в другую, близкую сердцу комнату.
Цвет ее глаз я с трудом припоминаю, сколько бы ни напрягал память. Прежде я называл их голубыми, но, пожалуй, это было не так. Скорее, цвета янтаря — таково мое впечатление, — янтаря, темневшего от сильных страстей, или же отливающего синевой в ненастье. Далее: была ли она упоительной или же скучной? Красивой или нет? Теперь, как правило, лицо ее представляется мне заспанным, а волосы — взлохмаченными. И тогда она кажется мне красивой.
Читать дальше