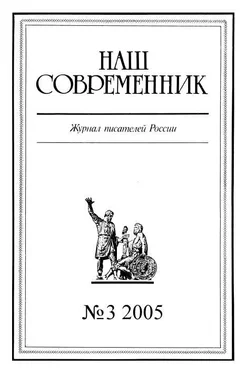* * *
«Даже странно — в губах это имя нести…»
Даже странно — в губах это имя нести,
Различать только этого имени сполохи.
Словно чуждую птицу сгоняю — лети! —
Потрепещет и сгинет в процеженном воздухе.
Но, спугнув, отпустить от себя не могу,
Хоть не мне его пить, и не мной зацеловано.
Лишь однажды в протянутой ложечке губ
Это имя цвело тёмным мёдом ворованным.
Отпустить от себя — не стряхнув, как листву,
Не спугнув, как молитву, нечаянным возгласом.
Будто дикий шиповник губами сорву,
Окликая пустое пространство вполголоса…
* * *
«Это тонут черёмухи в белых проточных ветрах…»
Это тонут черёмухи в белых проточных ветрах.
Это летнее небо цветным капюшоном на плечи.
Это в утреннем мареве дремлет детёныш-кузнечик,
Опьянённый ленивым дурманом нетронутых трав.
Это терпкая нежность в дыханьи распахнутых крон:
Ведь не скоро ещё тяжелеть, наливаясь плодами.
А пока — шелестеть, шелестеть на ветру куполами
И ловить лепестками пчелиный полуденный звон.
* * *
«В кромешности потушенного света — я знаю — мне опасно оставаться…»
В кромешности потушенного света — я знаю — мне опасно оставаться,
протянешь руку, шевельнёшь губами — бабай скакнёт! Скорей, скорей на кухню!
Сестра длинноволосая. Как крепость.
Готовит неприступные уроки.
Расплывшиеся по тетради буквы
я медленно распробовать пытаюсь.
И вот они, послушны, оживают
тропическим названием «Ал-геб-ра»,
растением волшебным. Но об этом
спросить сестру мне духу не хватает.
У бабушки гребёнка костяная
и сарафан, впитавший запах кухни.
Стремительные спицы, будто птицы,
вьют гнёздышко пуховое, ручное.
Я знаю, как. Меня уже учили
перебирать запутанные петли.
Отколупну кусочек штукатурки
за печкой, где меня никто не видит.
Получится горяченькая ямка.
В печном нутре гневливый зверь бушует.
Пахучие песочники томятся,
мы с мамой их в духовке заточили
на противне, посыпанном мукою.
Он не противный, просто очень чёрный.
Из погреба сейчас достанут к чаю
тягучего клубничного варенья.
А за окном надсадный рык овчарки,
рёв трактора. На сваленных берёзах
везут зарод, зародище, громаду,
присыпанную снегом гору сена,
Колючего, душистого, сухого.
Я завтра на него тайком залезу.
Отец кричит о чём-то с мужиками,
перекричать старается овчарку…
Оранжевые тракторные фары
прошили двор насквозь, до огорода…
Отоснишься ль когда-нибудь, ждавший, любивший, кормивший,
Мой единственный дом, где рассыпало детство следы…
Белоствольный простор у просевшей под временем крыши
И щербатый колодец, черпнувший глубинной воды.
И толчёный снежок, скорлупой под шагами хрустящий.
А скворечня пуста — долговязый качается шест.
Только рыжий телёнок, опасливым оком косящий,
Из лохматой охапки солому поспешную ест.
Большеглазых снежинок бумажную белую стаю
На рождественский клей прикрепили в соседском окне.
Возвращаясь в тебя, каждый раз из тебя вырастаю,
Старый бабушкин дом. Но по-прежнему чудится мне
Неотчётливый скрип половиц у притихшей кроватки,
И притворство прищуренных глаз… А ещё б подглядеть,
Как мелькают по толстым шкафам быстроногие пятки
И фиалковый суп уплетает безухий медведь.
А ты помнишь, как жили котята в плетёном лукошке,
А как я на запретный чердак пробиралась тайком,
А пахучий дымок от печёной в духовке картошки,
С крупной солью и хлебом, и белым густым молоком!
Что-то ветрено нынче… Хлопочут иссохшие ставни.
Детство — яблоко, из повзрослевших упавшее рук.
Не оставь же меня, моё млечное воспоминанье —
Миг духмяного детства, предутренне-сладкий испуг.
* * *
«И всё-таки февраль. Подстывшая дорога…»
Летит под перестук натруженных колёс.
То грязным полотном расстелется полого,
То зарябит в глаза рубашками берёз.
Заждавшаяся дверь в свои объятья примет,
Подсуетится стол, посудою звеня.
И мама за столом заботливо обнимет
Забытой теплотой обмякшую меня.
И будет говорить, что пирожки остыли,
Что свежий варенец так и не съели мы.
И скажет, помолчав, что зиму пережили,
И, может, хватит дров до будущей зимы.
А престарелый кот свернётся у порога
Помуркивать во сне, пережидать мороз.
Но всё-таки февраль. И всё-таки дорога
Размотанным клубком летит из-под колёс.
Читать дальше