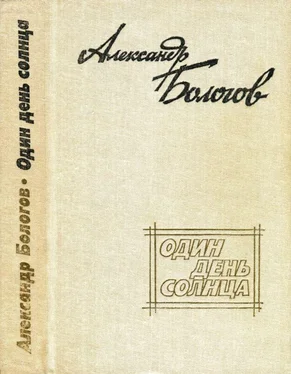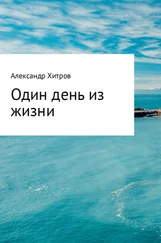Живи знай да радуйся… Только бы сбросить с плеч пережитое.
Этого Ольга, как ни пыталась, сделать не могла.
Она подвигала ногами, поискала им место поудобнее. Попробовала дышать ровнее. Дом еще бодрствовал: наверху кто-то досматривал запоздалую телепередачу — можно было разобрать целые фразы: прослушивались отгороженные стенами голоса. Снаружи долетела веселая музыка — в доме напротив гуляли. «Суббота», — вспомнила Ольга.
В ее избу посторонние звуки просачивались скупее: каждый дом живет своим миром, двор от двора отделен заборами.
Она без особых усилий могла вернуть себе ощущение домашнего ночного безмолвия. Их окраинная улица стояла в стороне от больших проезжих дорог, стены жилья были хоть и ветхие, но толстые, ставни запирались наглухо. В поздние часы, лежа в одиночестве в опустевшем доме — переборку она с выездом дочери разобрала, — Ольга отличала большей частью близкие звуки: возню мыши под полом, в зимние холода — оседание и потрескивание сруба. Малые шумы заглушали ходики, но ухо так привыкло к их монотонному перестуку, что Ольга научилась каким-то внутренним усилием отделять повисающее в воздухе биение от остального мира звуков и улавливать обнажившееся дыхание жилища. В большие морозы, укутываясь чем можно, она слушала кряхтенье остывающей печки и участливо вздыхала.
Когда дети были маленькими, к ним лишь и поворачивала ухо: ровно ли сопят? Как кто зачастит — так и сердце екнет: не захворал ли?
Коснувшись в памяти военных ночей, Ольга тотчас почувствовала, как внутри нее упала холодная искра страха — родилось какое-то тревожное воспоминание, вытесняющие остальные. Она безотчетно засопротивлялась наваждению, даже головой тряхнула, пытаясь уйти от пагубного воскрешения прошлого. Но искра светилась, обостряла боль, и вдруг вспыхнуло синим светом — «похоронка»…
Первый раз ее сбросил с койки этот крик, когда Саньку еще грудью кормила, и война казалась бедой неблизкой и временной. Поздним вечером со двора Грибакиных — соседнего, за штакетной оградой, — вынесся истошный вопль Варвары — как звериный вой, дикий и жуткий. Он легко прошил стены и словно варом обдал Ольгу, — она чуть Саньку из рук не выронила — усыпляла грудью.
В чем была, натыкаясь на родные углы, выскочила Ольга за порог, в лихорадке вернулась к закричавшему ребенку и, прижимая его к теплому телу, высунулась за калитку. По тротуару, держа в руках какую-то бумажку, шла, спотыкаясь, простоволосая Варвара. Остановившись подле Ольги, Варвара, как полоумная, долго выла, глядя пустыми глазами на Ольгу. Потом прервала стенания, прохрипела: «Кольку мово убили!»— и снова наддала голосу и пошла дальше, к другому дому. Распахнутая кацавейка обвисло держалась у нее на плечах…
«Варя, это ошибка! Варя, это ошибка!» Эти первые слова, брошенные вслед безутешной соседке, память сохранила нетронутыми навсегда.
Позже не раз еще защемлял сердце в тиски отчаянный бабий крик, — и все по ночам, когда они, обессиленные, возвращались с вечерних смен, а дети заботливо сберегали для них надежно запечатанные светлые конверты. Среди тьмы, как смертельный луч, вдруг повисал над улицей тягостный стон, — его ни с чем нельзя было спутать, — и хлопали калитки, шуршали под окнами быстрые шаги — люди шли размыкивать горе.
«…В бою за нашу Советскую Родину, верный воинской присяге… пал смертью храбрых…»
И сама она криком кричала, увидев у себя уже знакомый глазу бланк извещения, билась головой об стол. И дети были долго не кормлены, и уже Варвара Грибакина стала ей первой подпорой, остановившей на самом краю. «Сироты…»— жалостливо глядела, придя в память, на ребят и ясно видела на их худых бескровных лицах эту обозначившуюся мету. И еще не рожденное, еще без тягости носимое дитя — остатний след Георгия — уже тоже было сиротой.
На проводах тоже вопили — когда прощались с мобилизованными, на вокзале. Тоже надрывали души дурные вскрики баб, — молодухи шли как подголоски. Но из пестрого провожального хора редко выплескивались голоса обреченности, неотвратимости горя, — в долгом гуле расставаний отзывалась далекая обрядность, в каждом тлела надежда не на самое худшее. Глухое завывание старух, хорошо помнивших и мировую, и японскую, познавших истинную цену надежды и веры, тонуло в зное и гомоне.
…Ольга перевернула подушку — местом похолоднее, приподняла голову. «Унялись, все унялись…» — подумала успокоенно. Теперь уже ничто не мешало ей плыть по морю воспоминаний — бурному и холодному, но до страсти притягательному, близкому, своему. Она прекрасно знала, какой измученной и опустошенной прибьют ее к рассветной гавани волны этого тревожного моря, где смешивались явь и сон, жизнь и грезы. Опыт научил, что пережитое в памяти порою тягостнее реальных ощущений, но каждая рана прошлого зудела, покалывала, и ее нужно было тронуть, остудить…
Читать дальше