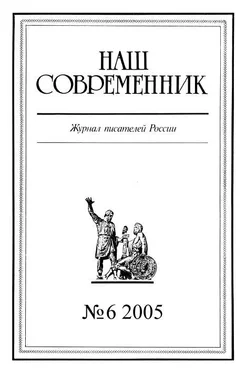Пушкин в «Истории Пугачёва» приводит несколько версий о происхождении яицкого казачества. Самая, по его мнению, достоверная — та, что казаки пришли сюда с Дона. Если так, то яицкие казаки могут считаться «викингами в квадрате», или «суперпассионариями», если использовать термин Льва Гумилёва. Уж если и на Дону жизнь казалась кому-то скучна и тесна, и чья-то душа возжелала ещё большей воли, и кто-то ушёл с Дона к Волге, а потом поселился у самого Камня (как в те времена называли Урал) — значит, то были в полном смысле «оторвы».
И действительно, нравы яицкого казачества были разбойными, дикими. Пушкин пишет: «Сохранилось поэтическое предание: казаки, страстные к холостой жизни, положили между собой убивать приживаемых детей, а жен бросать при выступлении в новый поход. Один из атаманов, по имени Гугня, первый преступил жестокий закон, пощадив молодую жену, и казаки, по примеру атамана, покорились игу семейственной жизни».
Первобытно-могучим было и уголовное право яицкого казачества. Преступлениями считались четыре поступка: воровство и убийство, измена (разумеется, воинская) и проявление трусости. А наказание было одно: «в куль да в воду». Даже в войсках Чингисхана, которого уж никак не сочтёшь милосердным, за такие же преступления кроме казни возможна была ещё ссылка.
В отношении к русской империи, частью которой казачество Яика, несомненно, являлось, мы видим ту же двойственность, что и у всех остальных казаков. Уральские молодцы, с одной стороны, активно участвуют во всех военных или карательных экспедициях русской империи — а с другой стороны, против этой же самой империи непрерывно бунтуют. Из многочисленных бунтов, случившихся на берегах реки Яик, мы вспомним один — тот, что предшествовал появлению Пугачёва.
О том, что весь Южный Урал представлял собой сложно-этнический, непрерывно бурлящий котёл, мы уже говорили. В 1772 году многочисленные калмыки, не стерпев притеснений от русских чиновников, решили уйти на Восток, в родные монгольские степи. Тридцать тысяч кибиток — «деревянных черепах», по выражению Сергея Есенина, — потянулись от Волги «встречь солнцу».
Яицким казакам было приказано остановить самостийную «жёлтую эмиграцию». Казаки, ценившие волю не только в себе, но уважавшие также свободу иного народа, отказались вставать на пути уходящих калмыков. Начальство не нашло слов убеждения — зато нашло пушки с картечью. Вспыхнул бунт; был убит генерал Траубенберг — тот, который и приказал стрелять по неподчинившимся казакам.
Правительству, как пишет Пушкин, пришлось принимать меры строгие, но необходимые. Мятеж был подавлен, огонь бунта сбит — но угли ещё продолжали тлеть под южноуральским котлом. «То ли ещё будет! — говорили прощённые мятежники, — так ли мы тряхнём Москвою». Костёр был готов снова вспыхнуть. «Тайные совещания происходили по степным умётам и отдалённым хуторам. Всё предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался».
И в рассуждениях, и в путешествии мы приблизились к Пугачёву и к пугачёвским местам. Вот она, крепость Магнитная, та, при штурме которой Пугачёв ранен был в руку, жестоко страдал потом этою раной, очень устал от неё, и может быть, в том, что он сдался без боя сообщникам осенью 1774 года, была и «заслуга» той самой магнитогорской картечи.
Сквозь рассветный туман, что плывёт за вагонным окном, вижу разноцветные дымы Магнитогорского комбината. И думаю: ведь судьба всей Российской империи дважды была решена в этих самых местах! Один раз так было в дни пугачёвщины, когда бунт охватил почти треть территории государства, когда пала столица Поволжья Казань и когда на самой Москве уж готовились отражать самозванца. И вот именно здесь, на уральских заводах, наступил перелом всей кампании: здесь решительный Михельсон доказал превосходство регулярной обученной армии над взбунтовавшимся «чёрным народом».
А второй раз и взгляды, и души России были обращены к Магнитогорску в дни «великого перелома», в 1929 году. Магнитострой стал символом новой России, местом, где разрушительная энергия революции была наконец-то обуздана, загнана внутрь мартенов и домен и служила отныне уже не развалу России, а созиданию и укреплению нового русского государства. Хаос здесь вновь, как и в дни пугачёвщины, покорился порядку — волны русского бунта разбились о камни Урала.
Вообще, Урал всегда служил прочной опорой огромному, рыхлому телу России. Недаром и расположен он, как позвоночник, посередине: недаром и называется он Уральским хребтом. Даже контур его и изгибы — взгляните на карту! — поразительно напоминают человеческий позвоночник. Не могу не привести замечательных слов, произнесённых в конце XIX века на съезде горнопромышленников Урала. «В течение 200 лет вся Россия пахала и жала, ковала, копала и рубила изделиями его (Урала. — С. С.) заводов. Она носила на груди кресты из уральской меди, ездила на уральских осях, стреляла из ружей уральской стали, пекла блины на уральских сковородках, бренчала уральскими пятаками в кармане…».
Читать дальше