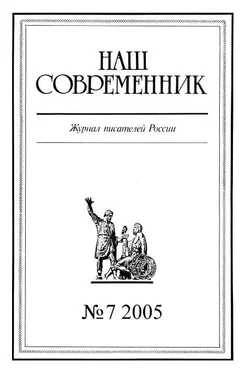«В американской литературе XX века, — пишет он, — нет более живого характера. Проблемы, неразрешённые комплексы, имена — это пожалуйста; но чтобы был человек, который перешагнул за обложку книги и пошёл по стране, заставляя трепетать за свою судьбу, — второго такого не отыскать. Тем более что захватывает она неизвестно чем; буквально по словам английской песни: „если ирландские глаза улыбаются, о, они крадут ваше сердце“. Ретт, её партнёр, выражался, может быть, ещё точнее: „то были глаза кошки во тьме“ — перед прыжком, можно было бы добавить, который она совершала всегда безошибочно».
Исторический фон романа — гражданская война, Север против Юга (на стороне последнего сражались два деда Митчелл), обретение страной свобод, со всеми вытекающими отсюда последствиями: «Передовые силы праздновали победу. Но, как выяснилось, дело свободы продвинулось недалеко. На поверженные пространства пришёл строй, о котором сказал поэт: „знаю, на место цепей крепостных люди придумали много иных“. Финансовая аристократия сменила земельную. В стране, лишённой опыта истории, противоречия прогресса сказались с особой остротой: хищничество, спекуляции и циничное ограбление труда расцвели, почти не ведая препятствий».
Словно бы всё это написано П. Палиевским не в 1982 году, а десятилетием позже — о нас самих, о «русских янки» и нашем диком капитализме…
Возвращаясь к роману «Унесённые ветром», мы следим за мыслью П. Палиевского, которая сопрягает имена Митчелл и Фолкнера: «Пусть отпечатались в Скарлетт черты наступившей эпохи, пусть не могла она им противостоять, усваивая худшее. Но помимо эпох, есть нечто проносимое человеком сквозь них, чего он добивается и достичь в них не может — надежда, реальная в непрерывном усилии её осуществить. И это усилие Митчелл воплотила в Скарлетт с редкой для новейшей американской литературы настойчивостью. В этом смысле она была сестрой Фолкнера, хотя и непризнанной».
Позднее, уже в разгар перестройки, на советские экраны прорвался фильм по роману «Унесённые ветром». Главную роль в нём сыграла — не американка, нет — замечательная английская актриса Вивиен Ли. Презентация состоялась, кажется, в 1988 году, в Большом зале Центрального Дома литераторов (ныне, из-за «циничного ограбления», у писателей практически отобранного). Перед показом выступили посол США в СССР Мэдлок и Пётр Палиевский, который сказал о Скарлетт-Ли: «У Вивиен Ли было это лицо, „которое что-нибудь да значит“, как бы ни обманывала им её героиня». И ещё: «И зрители приняли её безоговорочно. Это была Скарлетт».
Мостком между первой главой «На Западе» и второй — «У нас» может служить работа «Хаксли и Замятин». Автор говорит о том, какими глубокими связями соединены две фантастические антиутопии — замятинские «Мы» (1920) и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Речь идёт не только о мощном воздействии русского писателя на всю антиутопическую литературу Запада; их объединяла общая тяжёлая судьба. «На Западе — старались списать, пользуясь нашим небрежением, на „тоталитарный социализм“; у нас — с традиционной нашей угловатостью и нежеланием разбираться в „оттенках“ — отвергали с порога…». Добавлю, что публикация на Западе романа «Мы» в 1925 году отозвалась и личной драмой Замятина. Воспринятая в СССР как злобная карикатура на революцию, эта антиутопия послужила началом травли писателя, вынужденного обратиться к И. В. Сталину с просьбой выехать за границу, которая была удовлетворена (1931 год). Не принятый в эмигрантских кругах (Замятин до конца жизни оставался советским подданным), он почти утратил творческий пламень.
Но в работе П. Палиевского речь о другом. О той грозной опасности, какая надвигается на человечество, прежде всего на обеспеченный и беспечный «золотой миллиард». «Невидимая смерть, наступающая изнутри, — говорит автор, — от перестроения жизни по техническому образцу; отсечение её от скрытых источников, объявленных вымыслом, и помещение в быстро растущую функциональную клеть-скорлупу. То есть результат как бы естественного и необходимого развития цивилизации». Теперь эта опасность, как никогда ранее, близка и нам, нашему обществу, титульной нации России…
Два великих имени, два Михаила привлекают внимание П. Палиевского в главе «У нас»: Шолохов и Булгаков — «Мировое значение М. Шолохова» (1972), «„Тихий Дон“ М. А. Шолохова» (1980), «Шолохов сегодня» (1986), «Шолохов и Фолкнер»(1987), «И вот берег (К 85-летию Шолохова)» (1990), «Последняя книга М. Булгакова» (1969), «В присутствии классика» (1991), «М. А. Булгаков» (1999). Впрочем, автор обращался — и не раз — к другим русским классикам.
Читать дальше