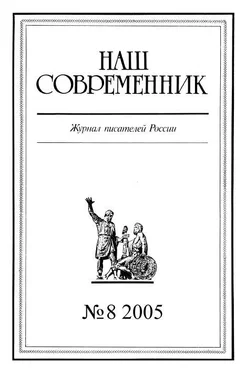Андрей Соколов после всех испытаний возвращается на родину, узнаёт, что семья его погибла, но находит в себе душевные силы, чтобы жить дальше. Он трудится, становится шофёром, усыновляет мальчика-сироту. Он строит заново разбитую жизнь. Такие люди честным трудом, добротой возрождали порушенную страну.
Ну вот, теперь остановимся и поразмышляем. Вроде бы и вправду просто добросовестное изложение содержания гениальной шолоховской прозы. Однако у каждого из этих трёх авторов (да, в сущности, и большинства авторов сочинений) есть своё личное , оригинальное, внутри себя пережитое мнение, своя, увиденная именно внутренним взором самостоятельная оценка великой трагедии.
«Уничтожен был цвет нации», — заявляет Даша Камышан, и это горькая правда, увиденная сквозь толщу времён.
«…ничто не сломило веру Андрея в нашу победу, никто не смог лишить его русского духа!» — слегка патетически, но в полном соответствии с правдой истории говорит Степан Попов. А вот его юношеский оптимизм («Я думаю: приди сейчас война»…) вызывает по меньшей мере сомнение. Как подумаешь о сегодняшней армии — с её курсом на «контрактников» и «ландскнехтов», то есть наёмников даже из иных земель, готовых за деньги защищать Россию, — не по себе становится, ей-Богу…
У Васи Башенина ключевыми, на мой взгляд, являются слова: «„На миру и смерть красна“, — говорится в русской пословице. Но здесь, когда Андрей Соколов был с врагом наедине, никто не оценил бы его поступка. Судьёй могла быть только его собственная совесть». Вполне точно выявлено и понято школьником главное в русском характере — первичность совести, а не удачи любой ценой.
Такие «точечные попадания» в самую суть прочитанного шолоховского рассказа встречаются почти во всех работах. Вот Юля Казанская: «Даже обессиленный голодом, он смог проявить упорство и противостоять соблазну». Кстати, почти все считают именно духовную дуэль Соколова и коменданта лагеря Мюллера самым главным подвигом Андрея, но толкуют его всяк по-своему. Юля увидела в этом подвиге глубинную связь с эпизодом ночной казни Андреем предателя («…Он не хотел становиться похожим на него. Он не мог продать свою Родину за кусок хлеба»…).
А вот несколько иной поворот в «вечном сюжете» о стойкости и малодушии, о верности и предательстве.
ЛЕНА БАРЫШНИКОВА
«…Война сталкивает Соколова со всевозможными бедами, ужасами, муками, терзаниями и испытаниями. Лагерь для него — это испытание человеческого достоинства, силы воли. Впервые именно там Андрей убивает человека. Как ни странно, он убивает не немца, а русского. Но почему-то у меня не хватает смелости называть такого человека русским. Да, он русский по происхождению, он вырос на русской земле, прожил на ней долгое время, но он предал своё Отечество, свой народ. Я думаю, что такого человека нельзя называть даже россиянином, он хуже самого кровного врага: ведь всегда больнее получить удар от человека, от которого ты этого не ждёшь, чем от врага…».
Приведу теперь — пришло время! — слова так и не узнанного мною по имени и фамилии автора о первоистоках жизнестойкости и преданности Андрея Соколова своему Отечеству. Он, этот «аноним», не обозначивший своё авторство, сказал так:
«Где же те источники, которые давали ему силу, чтобы выдержать, устоять? Ответ на этот вопрос — в довоенной биографии Соколова — ровесника века, жизненный путь которого помечен памятными событиями в жизни народа и страны, где произошла Революция, где в труде и борениях создавался новый мир. То были обстоятельства, в которых формировались характер и мировоззрение человека, историческое сознание народа, сыном которого он являлся».
По-моему, здесь явно проглядывает совсем неплохая публицистика. Конкретный человек — и глубины исторического сознания народа; в урочный день и страшный час войны они не могут не сблизиться, и тогда, словно кресалом из камня, высекаются яркие, не гаснущие во времени искры массового подвига, массового героизма.
Меня же особенно умилили слова: «…где в труде и борениях создавался новый мир». Какая непривычная в нынешних условиях высочайшая оценка советского прошлого! Господам либералам следовало бы задуматься: не слишком ли они хватают через край, именуя это прошлое «чёрной дырой» в надежде поскорее убить память, особенно в юных головах и сердцах?
Такую же несокрушимую веру прочитал я и в сочинении Олега Пеева —кстати, единственном от руки написанном — мелким таким, осторожным «пружинящим» почерком. Очень думающий мальчик. Его (хотелось бы, чтобы таких становилось больше!) «на козе» истерического очернительства истории не объедешь. Ему сейчас слово.
Читать дальше