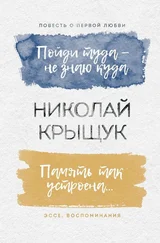Я старше него чуть не в два раза. Если бы это еще наращивало талант. Хотя что такое талант? Хочется сказать – это страсть к смерти. Но тоже ведь предпоследняя формулировка. Не все, отдавшиеся этой страсти, талантливы. И потом – умереть гораздо легче.
Много сказано о том, что Есенина невозможно представить старым. Скрытое умиление его юношеским жизнелюбием, буйством гуляки и скитальца. А дело ведь совсем не в этом.
Что ему делать, действительно, в старости без специальных духовных запросов и при непомерном честолюбии? Какой-нибудь отец Карамазов? Невозможно. Есенин хотел быть хорошим. Очень важное. Не в смысле нравиться (это тоже хотел). Он истинно хотел быть хорошим.
Вот птица летит. Умеет ли ей кто-нибудь подражать? Неподражаемо. Так и поэт. Судить горазды – повторить неспособны.
Но, впрочем, разве это относится только к поэту? Все мы примерно одно и то же, а отличается каждый от другого тем, чем можно только быть.
Каждый художник по жизни эгоист: весь мир сошелся на мне, и именно поэтому я могу вам его подарить. При этом, конечно, один заботится о своих детях, а другой нет. Есенин не заботился. Даже не думал о них, кажется, и не вспоминал. Сам последние годы (до ссоры) был ребенком беззаветно и странно любившей его Галины Бениславской. Она тащила его на себе из кабака, получала за него гонорары, делила с ним свою комнату, терпела или отваживала собутыльников, стойко сносила сплетни, любовниц и жен, уговаривала каприз и похмельную жажду. Приревновала только к смерти.
Испытывал благодарность сыновью, то есть редко явленную. А сам при этом:
Поредела моя голова,
Куст волос золотистых вянет.
Это же как часто и внимательно надо было смотреться в зеркало!
Одни из лучших в мировой поэзии строки о родителях из «Исповеди хулигана»:
Бедные, бедные крестьяне,
Вы, наверное, стали некрасивыми…
Но при этом их мог написать лишь человек, уже заложивший душу городу.
Жил в нем Жюльен Сорель. Покоритель. То есть заведомо проигравший. Город таким еще не покорялся. Он только брал, выжимал и выбрасывал.
Оставался бы просто пастушонком. Но тогда выше Кольцова было бы не вырасти.
Биография рождала особое зрение. Кто бы еще в символический герб родины мог врисовать испачканные морды свиней? В крестьянине нет этой умильности. Горожанину бы не пришло в голову. А он сочинил. Удались ему и березки, и «грусти ивовая ржавь», и клен, который присел на корточки погреться перед костром зари.
Но тогда, надо признать, сочинил и золотые кудри, и ясные глаза, и несуразную трубку, и кабак, и всех своих жен, и сестру, и мать, и Миклашев скую, и чтение Маркса, и хроническое отсутствие собственного жилья.
Сочинял себе жизнь. Было увлекательно и страшно.
Вся Россия его – насквозь литературная. Он сознательно в свою поэтизированную Россию не впускал то из жизни, что могло этот образ нарушить. Да и знал ли он настоящую Россию?
Это вопрос.
А кто знал? Некрасов? Пушкин? Может быть, Блок, столько о России написавший? По «ивановским средам», пригородным ресторанам и редким наездам в Шахматово? Бунин уверял, что не знал, поэтому и бросился так опрометчиво к революции. А сам Бунин знал?
Если иметь в виду знание историков, этнографов и прочих, то поэты здесь почти все в ауте. Но поэту для того, чтобы знать, можно вообще не выходить из комнаты. Он изначально знает себя, природу вещей, трагическую подоплеку жизни в ее комических проявлениях. Ему остается все это развернуть как свиток и правильно уложить в слова. Это и есть жизнь поэта. Игра. Только не с самим собой в поддавки и не с партнером-читателем, а с жизнью и смертью.
Советский лозунг: писатель должен знать жизнь! Какая чушь! Для того их бригадами и посылали на стройки (непременно огромные) и в колхозы (непременно дальние). Какая литература из этого получилась, мы знаем. Между тем у тебя, сидящего на детском коврике, мир может быть огромнее, чем Сибирь.
Деревня Есенина – ностальгическая деревня. Милый, смешной дуралей, который обреченно мчится за паровозом, только прикидывается тоской по патриархальной деревне, убогость которой вызывала в Есенине не умиление, но отчаяние и жалость.
Приезжая к родным, пил до изумления и куражился, а возвратившись, снова начинал тосковать. Кому не известен этот не разрыв даже, а отрыв от родной стихии в силу возраста, географии, образования? Он тосковал по деревне, которой не было, по дому, который существовал только в его воображении. А и в городскую жизнь не мог вписаться. Иногда кричал по пьяному делу: у меня никогда не было своего дома; сумасшедший дом, да, вот мой единственный дом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу