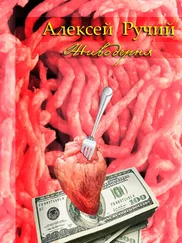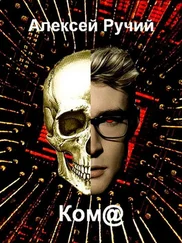Они что-то записали в своих картах. Точнее, в наших картах. Затем забрали у нас паспорта и телефоны. Иметь их здесь запрещалось.
Такого расклада я не ожидал. Настроение упало ниже ватерлинии, в темный кишащий крысами трюм. Воображение начинало рисовать совершенно мрачные картины. Это тюрьма. Тюрьма, в которую мы с Ромой добровольно заточили себя. Все ведь так и выходило.
Потом мы в сопровождении хмурой женщины поднялись по лестнице на последний этаж. Шагая по ступенькам, а затем по коридору стационара, я вскользь осмотрел свое новое прибежище. Всюду решетки. И двери без ручек. Ручки медперсонал носил с собой. Одной из таких хмурая женщина открыла нам дверь в отделение.
За этой дверью начиналась совершенно другая жизнь. Коридор. Палаты без дверей, просматриваемые. Туалет с огромным круглым отверстием в двери. Погруженные в себя личности на скамейках вдоль стен. Отсутствующие взгляды. Подвыпивший медбрат, который проводил нас в небольшую каморку, где положено было храниться вещам. Там мы переоделись. Взяли с собой лишь сигареты.
Сигареты в психбольнице — это вообще отдельная история, заслуживающая небольшого рассказа. За сигарету психи готовы на все. В прямом смысле этого слова. Все зависит только от вашей извращенной фантазии. За тлеющим в пальцах фильтром выстраивается очередь. Так что скурить целую сигарету в сортире психбольницы — даже и не мечтайте.
Наша палата была возле входа в отделение — там особняком лежали только военкоматские. Психи были в палатах по соседству. Но ощущались. Ощущались достаточно сильно. Особенно Слава. Слава — человек-сирена.
Слава почти не видел. Когда-то он работал сварщиком, на работе потерял зрение, остался без работы. В поселке, где Слава жил, это означало практически верную гибель, поэтому неудивительно, что Славина любимая жена, не сильно охочая до работы, зато питавшая слабость к алкоголю и другим прелестям жизни, от мужа-инвалида открестилась сразу же: принялась гулять напропалую, водить мужиков, нисколько Славы не стесняясь, а потом и вовсе бросила, переехала к одному из своих хахалей.
Так Слава двинулся. Попал в психушку. В больнице психи из активных, пользуясь тем, что Слава слеп, всячески издевались над ним. Пинали, обкрадывали. Вполне вероятно, что кто-то даже периодически совершал с ним акты мужеложества.
Что говорить: если уж сама жизнь так обошлась со Славой, то что было взять с больничных дуриков? В общем, было Славе совсем плохо. И Слава, пытаясь хоть как-то воспротивиться измывающейся над ним реальности, начинал выть.
Выл он часами. Начинал сразу после завтрака — и продолжал почти до обеда, пока транквилизаторы, которыми Славу усиленно накачивали, не погружали его в тихий безвольный анабиоз. Его вой — яростный, злой, полный обреченности — метался по коридорам психбольницы как смерч, в нем была заключена вся боль помутненного сознания, сознания-тюрьмы, в которой бились остатки разума.
Звонить домой можно было только один раз в сутки — для этого выдавали на время наши телефоны. Звонок проходил под присмотром старшей сестры. На вопрос матери «как там кормят?» я отвечал просто: «как в сказке», подразумевая сказку «Каша из топора». Старшая сестра иронии моей не понимала в силу своей природной ограниченности, посему оценивала мое выражение как правильное и улыбалась. Так оно и лучше.
Потому что продукты из столовой воровали. Воровали все: повара, медсестры, врачи. И, как следствие, кормили в больнице очень плохо, скудно и невкусно. Психам ведь все равно, что жрать — они психи. И пожаловаться им некому. Приблизительно так рассуждали местные философы от кулинарии.
Мы, военкоматские, по возможности сторонились местной пищи, питаясь исключительно для поддержания сил и надеясь поскорее вырваться из этого блокадного ада — поэтому к нашим столам всегда выстраивалась очередь: доесть.
Время убивали, играя в карты. Я иногда читал. Аркадия Гайдара. Гайдар тоже когда-то лежал в психбольнице, насколько мне было известно. Поэтому я невольно чувствовал какое-то родство с писателем. К тому же мне нравился его стиль. В его детских на первый взгляд книгах я открывал для себя взрослую правду жизни.
За окном, забранным решеткой, скучал осенний лес. Изредка по козырьку стучал мелкий вкрадчивый октябрьский дождь. Мир был погружен в темную транквилизаторную дрему. Его сумасшедший бог качался из стороны в сторону, твердя мантру на одном из потерянных языков прошлого, выдувая слюнные пузыри растрескавшимися губами. Казалось, что все вокруг — это и есть одна огромная психбольница под названием «Стационар Мир», выписки из которой ждать не приходится.
Дня через два из города приехал психолог. Не знаю почему, но меня позвали к нему, а точнее — к ней, на прием первым. Впрочем, не исключаю, что тут и была своя логика: в нашем военкоматском братстве я был единственным, кто не косил. Не косил от армии и не прикидывался дуриком. Плюс история моя была все-таки более-менее обычной.
Психолог — молодая приятная женщина — мне понравилась. Правда, занимались мы с ней почти полтора часа откровенной ерундой: разгадывали какие-то ребусы, перебирали разноцветные карточки, она что-то спрашивала, я что-то отвечал. Лишь в конце она спросила про мои шрамы. Я ей все рассказал. Все-все… Да, я был влюблен. Да, пару лет назад. Да, не находил себе места. Да, писал стихи кровью и посвящал их Ей. А Ей было плевать. Как-то так.
Возможно, психолог даже позавидовала моей чистой юношеской любви. Хотя, скорее всего, нет. Я был всего лишь новым экземпляром в ее только начинающей формироваться клинической коллекции.
После психолога меня принял и главный психиатр. Мы беседовали где-то с полчаса. Он задавал вопросы, я отвечал. Все как с психологом, только без разноцветных карточек и с меньшим выбором вариантов ответа. По сути дела, все сводилось к однообразным «Да» или «Нет». На теме поэзии, правда, скудная фабула нашего разговора немного обогатилась:
— Стихи пишешь? — спросил главный психиатр.
— Пишу.
— Это хорошо. Только зачем кровью?
Я пожал плечами. Что мне было отвечать? Стихи — это и есть кровь. Пот, слезы, сперма. Стихи — это то, что наполняет все четыре камеры моего сердца, то, что кипит в моих железах, выделяется зловонными секретами из пор моей кожи.
— Публиковаться пробовал?
— Было дело.
— Успешно?
— Относительно. Все относительно.
Тут, пожалуй, главный психиатр со мной согласился. Он посмотрел в окно своего кабинета, тоже разрезанное на части прутьями решетки, на продрогший лес и как будто погрустнел.
— На флоте хочешь служить? — он указал на мою тельняшку.
— Куда отправят. Тельняшка — это так, в ней просто тепло.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу