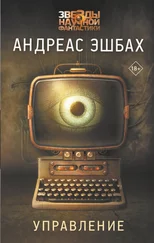Дорогие мама и папа! Как хорошо, что удалось через «Нова Весь» послать вам «левое» письмишко, завтра вы получите «нормальное». У меня все хорошо, сначала я немножко потемпературил и очень уставал. Но вы не волнуйтесь, ваш сын Только не пропадет! Я даже не утону в озере Чорба, так как для купаний еще слишком холодно, а чтобы сделать прорубь, надо еще пробить двухметровую толщу льда. Мне кажется, нас заслали сюда для того, чтобы мы после нынешней венской зимы «а-ля Советский рай» пережили бы еще одну вместо весны. За девчонками я еще не ухаживаю, мы тут одни мальчишки. Среди учительш не нашлось ни одной, похожей на мою прекрасную, как цветок, фрау БЛЮТЕ, я проливаю слезы. Гостиница — скверная, может быть, «Серне» она бы и понравилась, кстати, серне было бы легче запрыгивать на верхнюю койку нары тут в три этажа. Кроме наших коек в комнате воняют еще три такие же. У нас тут водятся тараканы, им даже зима нипочем: одни — черные, другие — бурые; бурые — помельче и приятнее на вкус, когда попадаются в хлебе. Раковины в умывальной все разбитые, из горячего крана льется ледяная вода, из холодного — кипяток. Уроки мы проводим стоя из-за того, что толстопузый Блазон со своей нахальной, крашеной женой из ненависти к нам, немцам, вынес из класса все стулья. Самое противное для меня — это долгие строевые занятия, как бы подготовка к армии, тут этого гораздо больше, чем было в Вене на сборах Союза немецкой молодежи: «Налево равняйсь!» — и держат так полчаса! «Направо равняйсь!» «В шеренгу по одному становись! Шагом марш! Вольно! Стой! Вольно! Отделение — кругом!» И так до умопомрачения. А потом еще пение: когда мы не знаем каких-нибудь немецких песен, наш погоняла наказывает нас внеочередным маршем. Цоттер даже сказал: хорошо, что строевые занятия у нас проходят без ружей, а не то он опасался бы, как бы его ружье само не выстрелило. Сегодня случилась большая неприятность. Вечером нам подали жидкую перловку с червяками не с вермишелью, а с настоящими червями. Во главе стола сидели учителя и начальство, а мы нюхали запах поданной им жареной печенки. Тогда мы выставили миски с ложками в один ряд, а староста нашего стола, когда начальник лагеря спросил его, в чем дело, ответил: «Бастуем!» Что тут началось! Но мы все равно не стали это есть. Не бойтесь, нам за это ничего не будет.
Но несмотря ни на что раздается свисток, восстанавливая симметрию между началом и окончанием дня. Осмотр спален проходит с вышвыриванием на грязный пол содержимого шкафов. Заправка постелей повторяется несколько раз до самого отбоя, когда вожатый наконец-то с треском захлопывает за собой дверь.
Витрову так и хотелось поинтересоваться у Долговязого, уж не пошла ли ему не в прок жареная печенка, однако он, как всегда, струсил. Потом, когда мы легли, я стал рассказывать про штрафной лагерь гитлерюгенда. А то у нас на ночь глядя всё только детективные истории и рассказы о привидениях, так вот сегодня для разнообразия немножко про то, как там берут в оборот (тут и Дичка со своим опытом). Кальтенбауэр, конечно же, сразу: «А какие-нибудь особые приемчики там применяют?» Вечно этот Кальтенбауэр лезет со своими «китайскими болевыми приемами» (например, удар под ключицу или выдавливание глаз пальцами). Дичка: «Нет, в штрафном лагере гитлерюгенда применяются только сверхдлительные спортивные и строевые занятия, труднейшие походы и постоянное плохое обращение». — «Как тебе кажется, а я могу тоже кончить штрафным лагерем?» — «Ну что ты, Анчи! Для этого надо быть коммунистом, а ты же, как будто, нацист. Так ведь, кажется, нам говорили во времена подпольного движения, верно?» «Брызжет кровь из-под ногтей, — поет Дичка, — от муштровки у парней» (на мелодию: «О, как я восторжествую…» [15] Ария Осмина из оперы Моцарта «Похищение из сераля».
— справа Дичка, слева — взятый в борцовский захват Витров, и попеременно то с одной, то с другой стороны тычки в причинное место: « муштра для левого яйца, а в правое нальем свинца, чтоб стало тяжелей»), «лечь, встать, марш, вперед, муштруют сутки напролет, мясо рвется от костей от муштровки сволочей ». «Неужели это действительно поют в штрафном лагере?» — спрашиваю я. «Некоторые даже делают себе татуировку „КПГ“ или советскую звезду». «А что такое — КПГ? — спрашиваю я. — А чем они наводят татуировку — раскаленным железом! что ли?» перебиваю я. «Объясняю: это всего лишь значит Коммунистическая партия Германии. Что она под запретом, так это просто смешно — была и всегда будет. В России они шли на смерть за лозунг, "Nebukadnezar"». Витров, тот понял: «Не Бог и не царь». Ему нравится игра слов: «По мне, пускай бы вся литература состояла из таких штучек». — «А разве Моргенштерн не еврей?» — «А что, у вас тоже есть такой лозунг?» — коварно спрашивает Кальтенбауэр. «Я такой же вожатый, как и ты, балда», — это Дичка, который не дает себя запугать. «Да ведь я просто так — ты знаешь, я и спросил». — «А пшел ты…» — говорит ему Дичка. Он замолк и запыхтел, занявшись своим членом. «Мадам Роза? Мадам Ивонна?» — презрительно гадает поднаторевший в этом вопросе Витров. Отныне он всю жизнь будет любить жареную печенку, коей царствие не от мира сего. «Хочешь частью дома быть, камнем, в ряд уложенным, уговор тогда — не ныть, ты нужен нам отесанный», — красуется на доске написанный смешным готическим — немецким шрифтом лозунг этой недели. «Вам только дайся, вы бы не то что обтесали, расколошматили бы нас на мелкие кусочки!» — мечтает Витров выпалить в лицо всем этим фюрерам. Между прочим, Харти, Шеффер и Крошка Пибель давно уже спят, узенький, как козлиная бородка, водопадик неутомимо шумит за окном, Витров может теперь растянуться в постели на всю карту Словакии, один на один с необъятными болотными трясинами.
Читать дальше
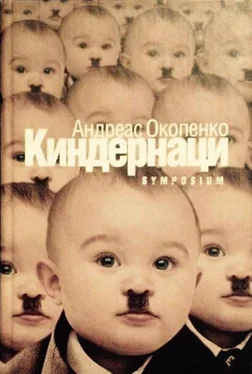
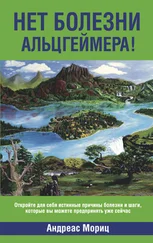
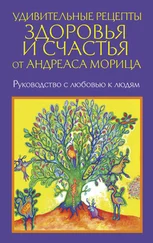

![Андреас Грубер - Сказка о смерти [litres]](/books/413559/andreas-gruber-skazka-o-smerti-litres-thumb.webp)
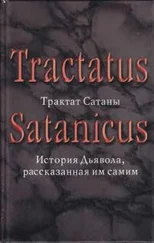
![Андреас Зуханек - Волшебный портал [litres]](/books/432581/andreas-zuhanek-volshebnyj-portal-litres-thumb.webp)
![Андреас Зуханек - Волшебная карта [litres]](/books/433047/andreas-zuhanek-volshebnaya-karta-litres-thumb.webp)