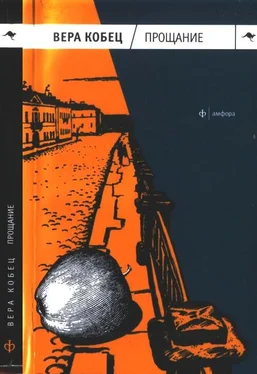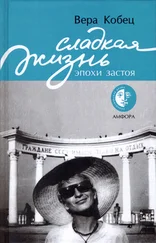Люся жила в конце Васильевского, у Смоленки, в маленькой или просто очень тесно заставленной мебелью комнате. Войдя туда следом за ней, Александр Петрович на миг усомнился, что эта худенькая женщина в сером плаще — та самая Люся, что так стремительно шла к нему в белом платье, а всего несколько часов назад смеялась и хлопотала в купе, еще пахнущем югом, морем и солнцем.
«Сейчас быстро переоденусь — и напою тебя чаем», — прерывая повисшую паузу, бодро сказала она, но Котельников заспешил и, торопливо поцеловав ее, ушел, пообещав позвонить вечером.
К этому времени Александр Петрович, закончив ординатуру, уже несколько лет работал в клинике известнейшего профессора Кромова. Попасть в институт Кромова было его мечтой, и когда эта мечта до странного легко, удачно, быстро воплотилась, он на минуту пришел в восторг, но, в общем-то, воспринял ход событий как закономерность и с жаром отдался поставленным задачам, с каждым днем увлекаясь все больше, все больше чувствуя трудность и дальность избранного пути. Работал почти без отдыха, редко брал отпуск, поездка в Крым была тут исключением, обычно он уезжал лишь на несколько дней в Архангельск, к родителям, и всегда торопился скорее вернуться, взяться за дело.
Знакомство с Люсей, их роман, в сущности, мало изменили жизнь Котельникова. Поздно вечером он приезжал к ней на Васильевский, привык постепенно к заставленной темной мебелью комнате, к портретам, строго глядевшим со стен, и к ленинградской Люсе: чуть настороженной, подтянутой, иногда грустно-робкой. Раскованность, легкость, присущие ей в начале знакомства, исчезли почти без следа, но ему это даже нравилось. Он с удовольствием приходил к ней, с удовольствием у нее оставался и все же с трудом представлял себе, что останется здесь навсегда. Идея женитьбы не отпадала, но торопиться было некуда, и не тянуло вдруг взять и шагнуть в непонятное будущее. Временами, в трамвае или на улице, он натыкался на мысль поменять ее комнату на Смоленке и его, на Халтурина, на что-нибудь общее (по возможности — рядом с клиникой). Надо было, конечно, обговорить это с Люсей, но каждый раз он в последний момент почему-то откладывал разговор на потом. О себе Люся почти ничего не рассказывала. Александр Петрович знал, что отец ее умер в двадцать девятом, а мама — несколькими годами позднее: у нее было больное сердце. К моменту знакомства с Котельниковым Люсе исполнилось двадцать пять и она уже некоторое время преподавала немецкий: в техникуме при Металлическом заводе.
В тот первый год они часто ездили за город. Как-то раз, в воскресенье, поехали в Сиверскую; долго бродили по лесу, накрапывало, но было видно, что дождик не разойдется, временами неожиданно пробивался сквозь тучи тонкий луч солнца, и тогда все сверкало, а капли на листьях казались бриллиантами. Притянув к себе мокрую ветку ольхи, Люся прижалась к ней лицом: «Ты знаешь, что это?.. Это „слова богов щедрым льются дождем, рождая отзвуки в рощах“». И, отвечая на его удивленный взгляд, пояснила: «Так можно перевести одну строчку из Гёльдерлина. Хочешь, прочту целиком?» — и, не дожидаясь ответа, ровным и тихим голосом стала читать стихи, а он увидел еще одну, незнакомую ему прежде Люсю: строгое отрешенное лицо словно прислушивалось к чему-то… прекрасное, но чужое. И как когда-то в вагоне, что увозил их из Крыма, встреча с вдруг проявившейся в ней новой гранью царапнула, и царапнула больно, уничтожая привычную простоту и устойчивость, — то, что ценил он превыше всего.
Их общие будни были для него полны прелести. Включали и нежность, и долгие задушевные разговоры. Люся прекрасно умела слушать; прочитав несколько книг по гематологии, с пониманием дела слушала его рассказы о ходе исследований, о трудностях, с которыми он сталкивался. «Твое лицо помогает мне найти нужный ответ, — говорил он, — ты так много даешь, что кроме тебя мне, пожалуй, вообще никого не надо». Когда появлялась потребность «насытить глаз» — ходили в театр. Больше всего Котельников любил Александринку. Певцов, Корчагина-Александровская, Черкасов… «Какая мастерская работа», — говорил он об их игре. В искусстве ценил серьезное, алгеброй поверял гармонию, от всего, намекавшего на возможность четвертого измерения, инстинктивно отшатывался, и сейчас, в этом осеннем лесу, глядя на побледневшее лицо читающей стихи Люси, вдруг заметил его опасную близость и внутренне сжался. «Я и не знал, что ты переводишь», — сказал он, когда ее голос умолк. «Когда-то переводила», — она пожала плечами и улыбнулась. «А что тебе помешало? Разве нельзя совмещать переводы с преподаванием?» — «Можно, но у меня это не получается», — очень спокойно сказала она и сразу заговорила о чем-то другом.
Читать дальше