К восьми годам она выросла слишком большой и уже не годилась на роль златокудрого эльфа, чья изящная грациозность служила прелестным контрастом грубоватой клоунаде, обеспечивая номеру успех у публики, и с тех пор отец утратил к девочке всякий интерес, а вскоре, дав денег, отправил домой, чтобы она смогла пойти в школу.
Но и школа не принесла ей радостей и успехов, что выпадают нормальным детям, так же как цирк не смог одарить ее блестящими и мучительно трудно дающимися триумфами, что достаются созданиям, чуждым обывательской заурядности. Высокий рост Мицци, бросавшийся в глаза тем более, что все одноклассницы были годом-двумя младше, служил поводом для частых насмешек. Одинокая, как тополек посреди лугов, неприкаянно возвышалась она среди других детей. Издевки, отличавшиеся искушенным городским злоязычием, которых она не могла понять до конца, ибо на это ей не хватало соображения, но которые с болью угадывала, изо дня в день обдавали брызгами ее слишком длинные ноги, меж тем как ее бедная глупенькая головка не могла по-настоящему усвоить пройденных уроков, и вскоре личико Мицци в печальной вышине приобрело удивленное и обиженное выражение, которое так на нем и застыло на всю жизнь. И только на уроках гимнастики, которая в те времена считалась самым второстепенным и несерьезным предметом, ей удавалось вызвать восхищение других детей благодаря своей акробатической гибкости. Поэтому и дома она по собственному почину дополнительно занималась гимнастикой, чтобы не лишиться единственной радости, которой побаловала ее судьба.
Ей не исполнилось еще двенадцати лет, как она уже начала сверху смотреть своим удивленным печальным взглядом на мать, статную и рослую. Анна от тяжелой работы раздалась вширь и сделалась как бы меньше ростом, она стала теперь крепко сбитой, вроде громоздкого ящика, однако для женщины все равно была очень высокой.
Старушка, от которой ей досталась квартира и лавка, умерла, все по закону принадлежало Анне, и она могла считать себя относительно богатой. Но тут настали времена экономической депрессии, и десятки безработных, которые целыми днями просиживали на холме с куском хлеба со смальцем и бутылкой ячменного кофе, за игрой в карты или починкой одежды, меж тем как их дети запускали самодельных воздушных змеев, гоняли тряпичный мяч или дрались, лишь очень редко могли позволить себе купить пятьдесят граммов кислых леденцов или бутылку пива и булочку с сосиской.
Ненасытный аппетит долговязой Мицци теперь преследовал мать даже во сне. И однажды она с помощью чиновника на пенсии, хозяина крохотного садового участка на склоне холма, написала письмо, которое чуть не целый год скиталось за цирком по разным городам, пока наконец не догнало ее волшебника. Она сообщала в этом письме, что Мицци стала большой и очень хорошенькой, и спрашивала, не найдется ли для нее какой-нибудь работы в цирке.
Вот так получилось, что Мицци вскоре снова попала в цирк и спустя несколько лет начала выступать под звучным именем Моны Белинды вместе с отцом, став в его номере девушкой, которую распиливают; иначе говоря, на каждом представлении ее, одетую в расшитое блестками трико, укладывали в длинный ящик, распиливали надвое, а затем снова соединяли благодаря чудесам черной магии.
***
Над вершиной холма, откуда открывался широкий вид на большой луг, садовые участки, свалки и домишки поселка — по левую руку, на огромные кварталы новых жилых домов — по правую, и дальше за ними — на горбатый, заслоняющий горизонт хребет Лайнцкого лесного заповедника, непрестанно дул ветер. То был не резкий ветер и не зефир лирического свойства, но терпкий и дерзкий, задорный ветер городской окраины, в самый раз для босоногих детей, бегущих за воздушными змеями, вечно голодных и вечно чумазых. И этот же ветер до времени испещрил щеки Анны бессчетными тонкими темными черточками, иссушил ее кожу и задубил загаром, как будто ей было предназначено еще при жизни перейти в состояние мумии.
Так, впрочем, все они выглядели, все, кто целыми днями лежал в траве на холме, играл в карты и в ожидании перемен прозябал в бессмысленном препровождении времени, в своей нежеланной свободе, свободе безработных. Но свобода безработного — не более чем невидимая клетка. В этой клетке сидели они на ветреной, поросшей травой вершине, которая поневоле заменяла им природу и подлинную человеческую действительность, валялись на старых пальто, положив рядом на траву бутылку с кофе и хлеб, меж тем как их силы, посаженные на цепь фактов, рвались с цепи, стремились сорваться, дорваться до какой-либо пользы, но эта воля все слабела и слабела, и наконец отупело ложилась на землю рядом со спящим убогим существом, в точности как пригнанный ветром насквозь промокший под дождем измятый бумажный клочок. А потом мускулы воли все больше тощали, так же как таяли без дела мускулы на их праздных руках.
Читать дальше
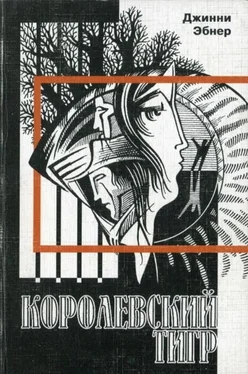




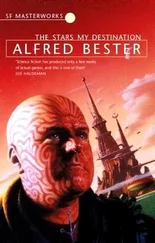
![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](/books/317632/filip-farmer-vlastelin-tigr-vladyka-tigr-bog-thumb.webp)
![Альфред Бестер - Тигр! Тигр! [сборник litres]](/books/417785/alfred-bester-tigr-tigr-sbornik-litres-thumb.webp)


