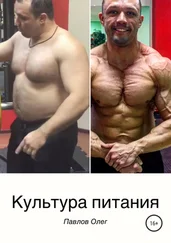Так и должно быть.
Теперь ночь и прожита.
Думать о фляге ему было непосильно, как вдыхать простор воздуха, народившийся из ночи, но Матюшин силился понять, что с ней делать, и ждал той минуты, когда из беглых сумерек выйдет навстречу водочной тот неизвестный зэк, с которым он связался этой ночью, с которым так же не знал, что делать, но который являлся неотступно и тягостно, будто был у Матюшина тенью, хоть сам Матюшин ничего себе не оставил, даже смертной папироски не было у него с утреца.
Присутствие его Матюшин распознавал уже с нечеловеческим чутьем, как если бы зэк был его нервом, который щемило. Сам зэк отчего-то не приближался к вышке и выжидал – не глядел, а подглядывал откуда-то сбоку, с отшиба, в этом сумраке утра похожий на голое, чахлое деревце. Его и шатало, будто деревце, куда подует ветер. Матюшин отыскал его, теряя из виду овражки заграждений, непроходимые колючие кусты проволоки – все, что их теснило, разделяло шагов на сто. Эти сто шагов, которые Матюшин не отмеривал, были как вдолбленные в землю и складывались слоями, плитами ограждений, каждая из которых имела намертво свой, как два аршина, метраж. Взгляды их неожиданно сшиблись в утреннем воздухе. Зэк пошатнулся и, как оступившись, шагнул невпопад вперед, и Матюшина напрягло, скрутило, будто легла на него тяжесть плит. Но и зэк, сделав всего-то шаг, врос в землю, и ствол человечка, видевшийся Матюшину, вдруг застыл столбом.
Стояние, тягость, молчание, пустота той минуты были Матюшину невыносимы, ему даже почудилось, что зэка и нет, а есть серый дикий столб, труп. Утро померкло, глаза опять застила ночь. И вдруг столб ожил, попятился – и утро всплыло, нетонущее и воздушное в своей бесцветности. Зэк уходил, убывал в сумерках, сгорал в их утренней серости дотла. Матюшин с тем же чутьем нечеловеческим ощутил оставшуюся на его месте пустоту, будто свое брюхо.
И не полуживой, а неживой, он утратил понятие о времени, не узнавая больше, в какой части его находится. Не помнил больше и то, что есть смены, что и его будут на вышке сменять. Но теперь он и стоял как солдат, как о двух ногах орудие, сделанное из одного чего-то твердого, тяжелого и неподвижного.
Светало на глазах, каждую минуту. Стремительность света казалась огненной. Сумерки багровели, накаливаясь добела. Степи чернели, пластами выступая наружу, будто уголь, вдруг ослепляя снеговым безмолвным простором, отчего в глазах темнело, теплело – спьяну. Непогашенные, жарили прожектора да фонари, и в их жару обжигались поделки бараков, заборов, вышек. Кругом было как в светлом и пустом необитаемом бараке. Только был он с земляным полом и крытый наглухо небом. Слышалось в нем дощатое кряхтение с гудением трубным сквозняков, и воздух пах необитаемыми лесами этих досок, небесной сыростью, землей, да старо дышало из углов человеком, как прахом.
Неожиданно прожектора и фонари оборванно погасли. В караулке махнули рубильником, как окрикнули, и утро холодно стемнело, словно обросло грозовыми тучами. Во всем утвердился холодный темный порядок, будто по цепенеющим баракам, заборам, вышкам пустили ток. И наступило утро – лагерное утро. Всю ночь стрекотали железно командирские часы и вот скомандовали.
Матюшину чудилось, что он так и не смыкал глаз, и виделось ясно, как он искурил папироску, и была такая пустотища во рту, будто и обкурился. Зэк всплыл на его глазах из успокоившейся гладкой темноты. Теперь он был и толще да и ближе стоял к водочной, чем это было на отшибе. Он возник в том месте, где пролеживал железный и деревянный лом отработавших на этом участке ограждений, что был сложен поленницей и догнивал. Он прикрывался поленницей, видный как на ладони с вышки, но незаметный с земли, и подглядывал за солдатом.
Матюшин вдруг ожил и позвал его задушевно, боясь вспугнуть:
– Митя! Митя!
Обождав, зэк потянулся к водочной, шатаясь да вихляя. Трудно ему было совладать с хромой ногой, которая то оттягивалась, то утыкалась палкой. От трудности, что ли, он вставал, озираясь украдкой сгорбленно на проделанные шаги, но выпрямлялся, двигаясь к водочной и маяча солдату. Матюшин выслеживал его да поджидал, как бы заново узнавая. А покуда зэк волокся, он скинул пустую, растраченную фляжку под вышку – да на его глазах.
– Тебе рукой подать, поправейше, поправейше!
– Нее… Нее вижу… Неету… – мучился зэк, но выполз из-под ворот прямо по шпалам на голую окаменелую площадку под самой вышкой, метрах в десяти от главного заграждения, в которую и вжался брюхом, испустив дух, мучаясь попятиться от близкой такой фляги назад.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу