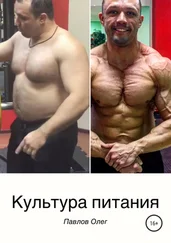– Нехоросо, оха, нехоросо… Брат с брата нельзя никогда драться. Вместе приехала, вместе уехала домой. Надо друсить, а не морда бить. Когда морда будет своему бить, я буду накасывать. Усбеку бей – не буду накасывать. А русски брата бить нехоросо, эта своей мамы не увасай, не люби. Оха, нехоросо!
Махонький терпеливый китаец внушал страх, от которого душа легчала и улетала. Матюшин глядел на него и трепетал. Китаец заставил их пожать друг другу руки, что они исполнили беспрекословно. А подумав еще, сказал и обняться, как братьям, и только после остался довольным, приговаривая себе под нос, будто напевая:
– Хоросо, хоросо…
Боль и злость утихли, сгнили. Он только помнил, что ударился, и больше ударяться не хотел. Остаток работ скоротал с Карповичем, покурил от его щедрот, установили они в земле железную одну сваю, потому что Карпович успел вырыть яму, работая один; и первый раз в жизни он увидел живого зэка. Бригаду заключенных, сварщиков, вывели на ремонт. Они работали под конвоем в отдалении, приваривали крюки к готовым сваям. Сыпались огненные искры, а зэки мелькали копчеными телами, вылезая из-под искр и залезая обратно под их дождь. Вдруг из-под огненного дождя вынырнул один и опрометью пробежал рядок копавшихся солдат, взвалил на плечо охапку нужного железного прута и понес, оседая под его тяжестью. Он лыбился и глядел шагов за десять на Матюшина, нового, незнакомого солдатика, что стоял у него на пути. А Матюшин разглядел только, что все зубы у него железные, а потом, так и не запомнив лица, потому что зэк катился мимо него живым комом из жил да мускулов, увидел он наколку на его груди – черти варились в котле. Всего на миг Матюшину почудилось, что и черти эти – живые. Зэк шагал, а черти в котле дергались и ерзали. Чуя, что солдат им заглядывается, зэк осмелел и захрипатил в никуда:
– Расступись! Дай дорогу! Толстого тащу!
После обеда и сна взвод этот ушел на зону, а воротился с зоны другой, с Дыбенкой, с которым они встретились, как дружки, обнялись. Обнимались в этой лагерной роте охранники, как целовались, – пожимали руку, брали свободной за плечо, прикладывали щеку к щеке, одну к другой. После Дыбенки, видя, что побратался тот с Матюшиным, молча подходили на встречу остальные. Ночью, перед сном, он спросил Дыбенку про этого Карповича, что он сделал такого, почему все над ним смеются да и что он за человек. Слыша, о ком вести надо речь, тот поскучнел и вспомнил только поневоле:
– Да ему во всю жизнь звезд пидорских не хватит, чего он только не делал здесь! Землю жрал, травился. Зимой служить не хотел, так что делал! Обсирался на вышке в штаны, вот как туалета ему туда не дали, чтобы его послать больше туда не смогли. Да и ноги эти его, я ж знаю, что он делал, с зубов грязь сковыривал, он мне еще хвалился этой мостыркой, когда в Абае вместе лежали. Теперь пристроился, деньги всем тут платит, чтобы не били. А тебе что сказал? Ты, гляди, подальше от него, он замарает. Ну, если разок мостырил, наплюй, он никому не родня, кто опухал. И я чего в госпитале лежал? Ну, опухал по первой, но чтобы сраться, да лучше б сдохнуть!
Через день Матюшин попал работать под вышку, где сменился угрюмый узбек и явился вдруг как из-под земли Дыбенко. Отбывал он на вышке как хозяевал. Достал из-под крыши конурки крепкую доску, уложил ее поперек, уселся с прямой литой спиной, так что казалось, будто стоит, и, изредка бросая сверху копошащемуся на полосе Матюшину по словечку, водил разговоры неизвестно с кем, глядя вперед, на зону. Матюшин слышал, сидя в яме заборов, их голоса, но не понимал, кто и откуда рядится с Дыбенкой. Над забором пролетела на вышку тряпичная скрутка, но не плюхнулась, верно была от груза тяжелой, и Дыбенко ее поймал.
– Ладно, валяйте! – крикнул он кому-то, распотрошив тряпку, поворачивая башку на волю. – Если кто отравится, братанов ваших потом пристрелю.
И пролетел на зону мешок защитного цвета, потом еще.
– А ты не пялься, тебе это рано! – рыкнул Матюшину, завидя, что тот обмер под вышкой и ждет.
За вышкой гудела и цокала невидимая станция. Стервами, как по часам, взвывали электрички. С час Дыбенко безмолвствовал, размышлял, глядел истуканом в зону, а потом ожил:
– Слышь, никого нету, слазий мне на станцию в магазин, возьми бубликов. Ты ж смертник. Ну, оплачивай должок! Да не тушуйся, ты не первый, бегали уже. Кидайся на забор!
Забор походил на задраенный к небу плот. Он шатнулся с кряхтеньем и накренился, когда Матюшин, одолевая волнение, полез вверх по скрепам его брусчатым, как по лесенке. Влез он на тошнящую верхотуру и оседлал забор подле вышки. Были видны пики ограждения, а за ними в упор, хоть расстреливай, битумная плоская крыша. На крыше, что отколовшейся от зоны льдиной почти подплывала к ограждениям и возлежала вровень с вышкой, насиживала краешек вороненая стайка зэков и задумчиво обозревала усеянное костьми рельсов поле станции. Дыбенко подбадривал для порядка, безразличный ко всему, что должно было произойти, кроме бубликов. Протянул на цыпочках бумажный ковшик из рубля. Указал низкорослый чумазый домик на станции, подле которого лежала под открытым небом куча бесхозная угля и росли ввысь метлами долговязые странные деревья. Матюшин огляделся судорожно, не увидал на всем этом просторе людей в погонах – и спрыгнул на тропу под собой. Осталось ему перемахнуть последний забор. Он уж не казался, как издали, стеной, а похож был и вправду на дощатые латки поверх воздушных дыр. Побег совершился. Он топтался под стеной в бурьяне, на пустыре железной дороги с холмом мшистым тупика. Зябко дрожал, страшась двигаться один без Дыбенки. Но тот исчез, вознесенный на вышке так высоко, будто спружинил, как с шеста, в самое небо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу