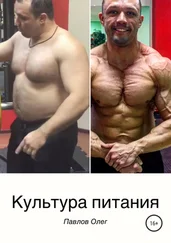Так он жить хотел, крылышки вырезал, клееночкой подшивался, это он так жил, твердит и твердит себе Матюшин, не в силах понять: жить, чтоб никто не заметил, что живешь?! Но узбек не молчит: если даже кружку воды попросят принести, отказывайся, по-доброму ничего людям не делай. Который упал, того не поднимай, пусть валяется, тебя зато меньше уже трогать будут. Думай, как не упасть, а не о том, как влезть, выше других быть. Если ешь хлеб, то считай так, что говно ешь, а если говно ешь, то считай, что это хлеб. Работу исполняй добровольно, какую скажут, терпи, но не допускай, чтоб ту же работу тебя исполнять заставили, – слышит все зыбче Матюшин, – не имей много вещей, трать все деньги, только попадут в руки, все раздавай-отдавай, чтоб никто у тебя силой ничего отнять не мог, не мог заставить отдать. Уважай сильных, признавай, давай себя бить, а не будешь уважать, жить не захочешь или убьют. Главное – не бояться смерти никогда, боли не бояться, но хотеть жить. Надо жить, думать только о жизни и днем, и ночью.
Хоть чудилось Матюшину, что постиг он целую жизнь, слушая узбека, но все это так и осталось ему чужим, ненужным. Он жалел узбека, только и мог, что промолчать, зная преспокойно, что у него-то все будет иначе, как ему захочется, а по-другому и не может быть.
Узбек исчез, точно умер, и не хранил Матюшин о нем даже минуты памяти. И тамбур, и кубрики опустели, много было людей, которые уже спали. Так что стоптанная дорожка, которая вела сквозь вагон, распахнулась и вытянулась далеко реченькой, с берегами тех, кто спал по обе стороны, и покрылась тонким ледком. То есть ходили теперь по ней, как по тонкому ледку. Кто не спал, чего-то ждали и ждали, хоть давно уж нечего стало ждать, не было ведь и душевных сил. В ту ночь поезд проходил по множеству мостов, катился по-над реками. Чуть не каждый час являлся этот воздушный гул, щемящий сердце, будто б не ехали, а улетали высоко в небо.
Следующие сутки пути прошли по странной земле – по степям. Люди в вагоне после разудалой пьяной ночи глядели потерянно в оконца и не узнавали этой земли. Кусты сохлые, серые да холмы из глины, холмы из глины да серые кусты. Капитан молчал, куда прибудут да когда, будто важной не выдавал тайны. Загадки загадывал:
– Когда надо, тогда и приедем… Куда надо, туда приедем…
И сила одного этого человека становилась все крепче – так страшило его молчание. Ночь прошла тихо, но в третью ночь пути устроилось снова пьянство. Речек за сутки не проехали ни одной. Тем, кто берег еще деньги, стало страшно их беречь, да и сводила с ума неведомая безжалостная жара, от которой кому-то в вагоне уж делалось плохо. Падали люди как замертво ни с того ни с сего. На них лили водичку, они оживали. Говорили, что надо больше пить воды, и вот бросились пить, но не воду уж, а водку, бормотуху, и не до веселья было, а только чтобы забыться. В ту ночь дошло до драк. Побили спьяну стекла в вагоне – чтоб дышать. Побоище началось, но капитан не встревал – крепился, молчал. Скопившись курить в тамбур, трое или четверо оставшихся на ногах, утерявших сон удивлялись доброте капитана, отчего ж терпит он, ничего не замечает, только раз и ходил к проводнику, который пойло продавал, да и того не смог запугать. Постелился пораньше – лежит, спит. А доложит все по приезде в часть, ведь за пьянку теперь могут и осудить, но смогут ли всех судить?
И тогда Матюшин вдруг понял с облегчением: вербовщику было спокойно и отсыпается он, потому что место назначения близко, – он проснется, и они прибудут, ехать им осталось до того места считанные часы! А уже светало, разжижался в оконце тамбура какой-то далекий, как через подзорную трубу, свет. Тогда, поняв, что времечка не осталось, Матюшин потащился в свой кубрик и залег покойно на полку, хоть и не желая спать. Но забылся всего-то на миг – и очнулся уже, когда в проходе и в кубрике толкались с вещами, торопились, а поезд замедлял и замедлял ход. Рвались крики по вагону, пугали друг дружку:
– Ташкент! Ташкент!
Было прохладно, даже холодно, солнце еще не вставало, и в млечном парном воздухе трепетал нежный, будто пенка, ветерок. Свой мешок, пустой, без жратвы, Матюшин бросил в вагоне, хоть оставались в нем бритва, зубная щетка, мыло и многое такое, что должно было б жалко бросать да и бездумно. То, что видел он кругом себя, сойдя с поезда, перенесясь на многие сотни километров, не казалось даже чужим и разве только не обволакивало со всех сторон, а как-то отстояло, точно намагниченное. Одинокие деревья с пыльной, серой, будто слоновьей кожей. Стоящий в отдалении весь белый, как марлевый, вокзал. Люди, узбеки, что проплывают сторонкой. А спустя всего час их везли в крытом армейском грузовике по ровной и чистой, как дыхание, жаре.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу