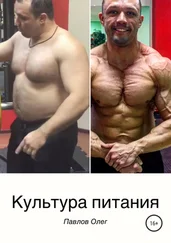Cанитары с одинаковыми улыбками взирали на этот бунт, но сжалились и повели служивых мыть руки. Прошли тем же путем. Старшой повел к неприметной дверке, за которой оказался прохладный пустынный коридор, куда выходили двери всех здешних подвальных помещений.
Вошли в одну из них – и очутились в ухоженной жилой комнате – с телевизором, холодильником, занавесками на окошке, старым диваном и креслами – но похожей из-за обилия развешанных повсюду диковинных инструментов да приспособлений на мастерскую. Пока они мыли руки, старшой с напарником готовились обыкновенно выпить и закусить. «Где все же гроб его находится? Кто его хоронит, Мухина? Вроде служивый, а почему увозите как бесхоз? Мы с Коляшей думали, защитника родина покоили. Думали, закатят похороны, нам чего за усердие перепадет. Хотя дело ясное, что темное, к нам на экспертизу просто так не везут. Эх, ну молчите, молчите. Давайте хоть помянем молодого человека. Налью по грамулечке, начальник не услышит…»
Пал Палыч отпрянул: «За этого пить не буду». «Что? Знакомый?» – спохватился старшой. «Все они мне знакомые, – ответил обиженно. – Всех, знакомых этих, на кучу вашу отвозил». «Ну и ну, даже помянуть своего же воротит… Ну тогда хоть пожуй, рулевой. Хватайте колбасу». Пал Палыч с достоинством сделал шаг к столу и взял в руки один кругляшок колбасы, лежащий медалькой на четырехугольнике черного хлеба. Алеша от давно забытого духа колбасы качнулся в eе сторону, но взять хоть кусочек не смог. «А ты что лыбишься?.. Ну и нравы у вас, озверели вы там в своем обществе, как же вы так ненавидите друг дружку?! Колбаса при чем, eе-то за что?!» «Я не люблю колбасу», – произнес виновато Холмогоров. И слова его то ли изумили, то ли ужаснули санитаров.
Младшенький почти вскрикнул от неожиданности: «Разве можно прожить без колбасы?!»
Алеша не знал, что ответить – заговорил вкрадчиво, осторожно сам старшой: «Насмотрелся, мамочка, небось, ему и жизнь противна, а не то что колбаса. Ясно. И на живых людей смотреть не сможет. Но ты думаешь, тайну какую страшную узнал, до корней докопался? Вот мы с Коляшей и колбасу кушаем, и жизни радуемся, а почему? Живой – так живи. Пока живы, будем кушать и пить, любить и радоваться. Помру, попаду на кучу – ну и потерпите, что несколько деньков повоняю, ну и простите, что маленько доставлю хлопот. У нас курорт… Что, разве корчи какие видишь или вопли слышишь, с которыми умирали? Тишина, покой… А сколько людей, может, молили о смерти, чтобы от мучений избавиться… Ну вот, гляди, избавились… Глаза воротишь? Это себя боишься или жалеешь. А ты не бойся, глянь-ка на смерть с уважением, с душой. Страшна бывает жизнь. И не мертвецы страшны – а, может, когда они людьми были. Это смерть на взгляд грязна – а снутри она чистая как слеза. И зря ты, мил человек, колбасу брезгуешь покушать. В ней смысл жизни, какой-никакой, а тоже есть, и раз на свет родился, обязан хотя бы из уважения и благодарности вкушать. Помнить».
Пал Палыч взял с усмешкой еще несколько кусочков колбасы: «Не возражаете? Тогда вкушу за него этого смысла! Колбаску копченую люблю, помню».
Когда выбрались тем же путем на воздух, он дожевывал колбасу и, только затворилась за их спинами дверь морга, сообщил Холмогорову навеселе: «Семейка кулацкая, хитрющая. Радуйся, радуйся, говорят, а у самих-то дважды два – всегда четыре. С каждого жмурика как с барана стригут, чего не радоваться. Ряхи отъели, тоже радостные. И водка у них, и колбаса копченая. Это учудил ты, что отказничал, раз давали. Хотя бы пошамкал, какая она, со смыслом-то, на вкус».
Пал Палыч опять терпеливо рулил на узких коротких дорожках… Уже на выезде из лабиринта чуть было не проехали мимо другой санитарной машины. Начмед опять вскрикнул, толкая его под руку: «Голубчик, притормози! Стоп, стоп… Вот так встреча!» Распахнул дверку, радостно выскочил. Из другой санитарной колымаги, которая тоже застопорила ход, вышел, радушно простирая руки, давний хороший знакомый – тоже врач в погонах.
Санитарная машина колесила по Караганде. Начмед на передке затаился, не подавал голоса, Пал Палыч, сидя за рулем, глухо отгородился спиной. Алеша в одиночку нес только себе понятную службу. Старался, сидел на своем насесте с осанкой караульного пса, которому доверено стеречь, а в голове жужжала назойливо чужая неприкаянная фамилия. Покойник просторно вытянулся на носилках. Из-под шерстяного одеяла торчали две ноги. Нога… ноги эти сами лезли в глаза. В каждой из них (отчего-то именно так, по отдельности) было что-то указующее, сильное, даже властное. Алеша подчинился, глядел, не отводя глаз: так если тонут, если утащило с головушкой, то руку еще вздергивают судорожно из свинцовой смертной воды…. А из-под одеяла смертного, тоже на вид свинцового, как из-под воды, каждая эдак по отдельности торчала, налитая смертным воплем, она – нога – растопыря толстые обрубки пальцев, которыми нельзя ни за что ухватиться, даже если захотеть. Чудилось, что это сама смерть указывала из-под рогожки солдатского одеяла – и Холмогоров уже трусовато цеплялся за свою скамейку, чтобы не соскользнуть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу