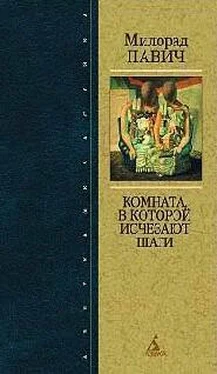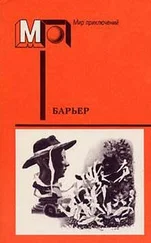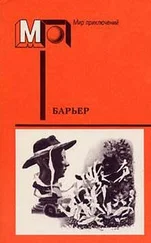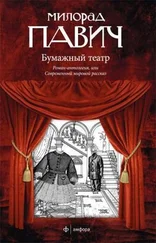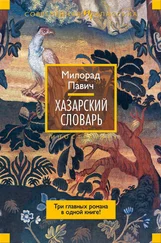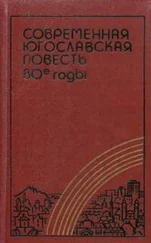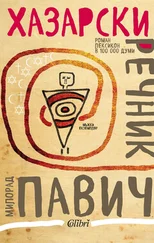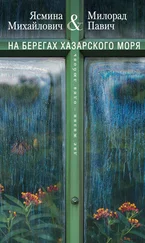Однажды весенним утром, как раз когда Ризничи переходили с русского языка на греческий, появился на свет маленький Александр Пфистер, красивый, крупный мальчик. Он сразу же закричал в полную силу, да притом басом, и оказалось, что родился он с зубами. Говорить начал через три недели после того, как его крестили в венской греческой церкви, на третьем году жизни он уже свободно оперировал пятизначными суммами, на четвертом, к общему изумлению, оказалось, что он умеет играть на флейте и говорить по-польски, а на голове мальчика мать обнаружила два седых волоска. В пять лет у Александра Пфистера проросла борода, и он начал бриться; он превратился в крупного, почти зрелого юношу, красавца с золотым кольцом в ухе, и непосвященные уже принялись прикидывать, годится ли он в женихи их дочерям на выданье. Но тут о нем поползли сплетни, словно у всех окружающих враз развязались языки. Среди этих сплетен (а больше всех в их распространении усердствовали служанки) особенно выделялась одна, удивительная и непристойная, о необычной и преждевременной половой зрелости ребенка. Поговаривали, что у малыша Пфистера от его бывшей кормилицы есть где-то сын, всего на несколько лет моложе его самого, но такого рода истории все-таки были преувеличением. На самом деле сын госпожи Амалии вообще никогда не выглядел странным; те, кто не знал ни его жизни, ни его возраста, не могли заметить ничего необычного ни в его обходительном поведении, ни в красивом лице, где всего было в изобилии, как на столе у Ризничей. Одна лишь мать как в помешательстве повторяла про себя:
– Красота – это болезнь…
Но неделя, стоит ей стронуться с места, на вторнике долго не останавливается. В шесть лет маленький Александр Пфистер стал совершенно седым, словно постаревший близнец своего еще нисколько не тронутого сединой отца (которому тогда еще не было и двадцати пяти), а в конце того же года мальчик начал стареть быстро, как творог, и на седьмом году жизни умер. Было это той осенью, когда от Тиссы до Токая хоронили виноградники, как раз в тот день, когда, как говорят, по всей Бачке не было произнесено вслух и пяти слов, если собрать их все вместе… Эта смерть, пусть даже ненадолго, снова соединила семью Ризнич, а семью Пфистер разбила навсегда.
* * *
– Вещь, более всего похожая на мысли, – это боль, – сказала госпожа Амалия, облачившись в траур и немедленно разойдясь с мужем. Ввиду того что Пфистер потерял собственное состояние еще до женитьбы, потратив его на создание дирижабля, расставшись с женой, он канул в бездну нищеты, оставив ей на память свои золотые часы и сохранив у себя серебряные, отмерявшие время госпожи Амалии, которая сразу после похорон уехала к родителям в Пешт. Она сидела в столовой их дома, пересчитывала каменные пуговки на своем платье и не мигая смотрела на мать и отца.
– Твой муж и ты оставили мне в наследство несчастье.
– Наверное, все-таки твой отец, а не мой муж.
– Ты выбирала мужа, а не я отца.
– Наверное, ты бы выбирала и мать, если бы могла.
– Если б могла, то, уж конечно, о тебе бы даже не подумала…
Так разошлись и они. Снова оставшись одна, госпожа Амалия наполнила свои сундуки лавандой, положила между рубашками листья грецкого ореха, в парик горные травы, в перчатки базилик, а в подол своих юбок зашила вербену и снова вернулась к скитаниям, к «синим, темно-прекрасным» платьям, а на шее у нее постоянно висел медальон с портретом покойного Александра Пфистера, на котором он выглядел так, как мог бы выглядеть ее покровитель или любовник, но никак не сын.
В поисках новых вкусовых ощущений она продолжала паломничества по ресторанам, но год шел за годом, и это занятие начало утрачивать свою привлекательность. Разница между одним и тем же блюдом, съеденным в молодости и теперь, стала большей, чем между двумя разными блюдами, попробованными сейчас. Так же как трава не растет под деревом грецкого ореха, не было больше тени под ее руками – они стали прозрачными. Она носила глаза, посеребренные в уголках, говорила мало, смотрела на кончик ножа и вместо того, чтобы пить из бокала, просто целовала его, а мясо в своей тарелке кусала так, словно кусает любовника, которого у нее не было. Однажды, глядя на изображение в медальоне, госпожа Амалия решила предпринять нечто, что помогло бы ей сохранить хотя бы воспоминание о ребенке. Она пригласила одного берлинского адвоката (тогда она как раз находилась в Берлине), передала ему изображение мальчика и потребовала опубликовать его. Амалия Ризнич приняла решение усыновить юношу, который будет похож на ее покойного сына. Дагерротип был напечатан в немецких и французских газетах, и к адвокату начали поступать предложения. Он отобрал семь-восемь портретов, которые больше других походили на тот, что находился в медальоне, но сразу же обратил внимание своей клиентки, что самым большим сходством, несомненно, обладал один из претендентов, с такими же седыми волосами, какие были у ее сына. Амалия сравнила оба изображения и решила усыновить того, о ком говорил адвокат, седоволосого. Неизвестно, когда она узнала правду об этом человеке. Потому что время вредит правде гораздо больше, чем лжи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу