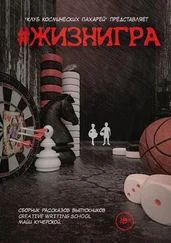После супермаркета оставалось только один раз – по заботливо распластавшейся зебре – перейти дорогу, и вечер, полный лакомых книг и книжных лакомств, ложился у Антуанетточкиных ног, урча и подставляя под хозяйские тапки теплый домашний живот.
И вечер этот окупал и искупал всё.
Машина напрыгнула на бедную Антуаннеточку слева, толкнув в грудь резиновой волной вонючего жара, – и улица, шумно кинувшись наперерез, вдруг быстро перевернулась, еще раз перевернулась и, подпрыгнув, изумленно застыла, охая и смущенно стряхивая с запачканного рукава мелкую дождевую поросль. Мигом со всех сторон натекла лужица взволнованно и безмолвно разевающих черные рты зевак; водитель, по горло погруженный в пережитый шок, никак не решался вылезти в промозглый воздух и всё лихорадочно протирал изнутри залитое лобовое стекло, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь ритмичное шуршание суетливых «дворников».
Звук – по чьей-то нерасторопности – так почему-то и не включили, но очки чудом уцелели на месте, и бедная Антуанетточка с невиданной прежде зернистой резкостью увидела белую, чуть подмокшую картонную коробочку с эклерами, похожими на толстенькие загорелые личинки заморских бабочек. На одну личинку, с самой лакомой шоколадной спинкой, впопыхах кто-то наступил, нежное сливочное содержимое выдавилось прямо в лужу – и по дождевой воде плыли странные маслянистые радужные пятна.
Перепачкают мне Сильвию Платт, машинально спохватилась бедная Антуанетточка, ища глазами купленную специально к эклерам книжку. Но книжки не было, зато близко – прямо у Антуанетточкиного лица – вдруг обнаружилась коричневая туфля, тупоносая, начисто лишенная даже намека на женское кокетство, но зато крепкая, с ребристой тракторной подошвой и не пропотевшим еще лиловатым логотипом фирмы в просторном нутре.
Это же моя, – изумилась бедная Антуанетточка.
И тут на нее со всех сторон – наконец-то – внезапно и яростно нахлынула настоящая, реальная жизнь. Такая влажная, промытая, сияющая, что, казалось, проведи по ней мокрым пальцем – и воздух восторженно взвизгнет, словно голубоватая молочная бутылка. Которую вечно живая мама моет в раковине, набирая на пластмассовую встрепанную мочалку немного серо-коричневого паштета «Пемоксоли», – и бутылка под маминым натиском то гневно ахает, то отчаянно скрипит, ловя мокрым прозрачным бочком невероятные, синие солнечные зайчики.
Какие бывают только в детстве.
И тогда Ника сделала аборт. И ничего не почувствовала. То есть было, конечно, больно. И страшно. Но больше ничего особенного – никаких обещанных душевных терзаний. Маму было очень жалко, это да. Она сидела в крошечной приемной на твердой кушетке и плакала так, как будто Ника уже умерла. На других кушетках ожидали своей очереди еще две барышни.
Ника вышла из кабинета бледная, как штангист, взявший рекордный вес, и старательно улыбнулась. Очень даже терпимо, – заверила она всех и на подсекающихся ногах пошла за ширму, чтобы засунуть в себя комок скрипучей хирургической ваты. – Очень даже терпимо. Барышни посмотрели с уважительным ужасом, а мама зажала распухшее неузнаваемое лицо краем Никиного детского полотенца и вдруг принялась раскачиваться, как на похоронах.
В животе у Ники больше не было ничего интересного. Месяц назад она приехала домой и прямо на вокзале, наскоро перецеловав поглупевших от счастья родителей, сообщила глубоким нутряным голосом «Информбюро»:
– Я развелась с Афанасием.
В Никиной жизни всё всегда было банально, начиная с имени – хотели мальчика Никиту, получили девочку Нику. Да еще недоношенную. Играла Ника всегда бесшумно, училась хорошо, терпеливо несла общественные нагрузки и никогда ничего не просила. Не потому, что «Мастер и Маргарита», а потому что стеснялась. И никто никогда ничего ей не давал. В смысле больше, чем полагалось.
Учиться в столицу Ника тоже поехала как-то вдруг, ни на что не надеясь, и так же вдруг поступила в солидный, очень технический и очень скучный институт. Правда, через год выяснилось, что в институте просто был недобор – учеба начала резко выходить из моды, – но Ника всё равно была благодарна. Она всегда была благодарна и на прощание неизменно вежливо говорила:
– Спасибо. Извините, пожалуйста. До свидания.
Хозяева пугались:
– За что – извините?
– За беспокойство, – смущалась Ника, хотя ее всегда приглашали заранее.
Без приглашения она пришла только один раз в жизни – к Константину Константиновичу. Тихонько поскреблась в дверь и, когда он открыл – огромный, ненаклоняемый, двухметровый, с косо прорезанным угрюмым ртом, – так же тихонько пожаловалась:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

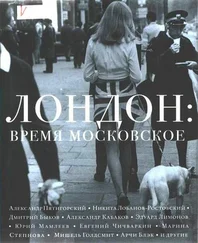






![Марина Степнова - Сад [litres]](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-thumb.webp)
![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)