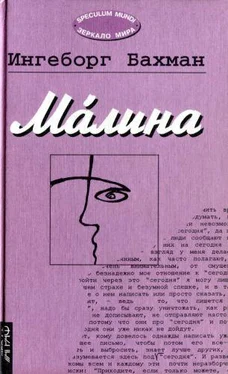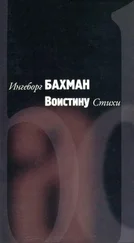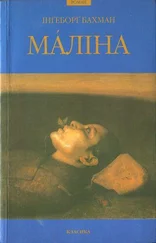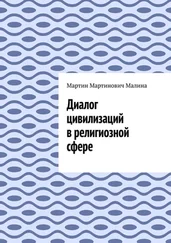Ко мне заглядывает Малина.
— Ты еще не спишь?
— Я не сплю случайно, мне надо кое-что обдумать, это ужасно.
— Вот как, а почему это ужасно? — говорит Малина.
Я: (con fuoco) Это ужасно, в одном слове весь ужас не выразить, это слишком ужасно.
Малина: И это все, что мешает тебе спать? («Убей его! Убей его!»)
Я: (sotto voce) Да, это все.
Малина: И что ты будешь делать?
Я: (forte, forte, fortissimo) Ничего.
Раннее утро застает меня бессильно лежащей в качалке, я неподвижно смотрю на стену, в которой образовалась трещина, она, должно быть, старая, но сейчас слегка расширяется оттого, что я так пристально на нее смотрю. Уже настолько поздно, что я могла бы «при случае» позвонить, я снимаю трубку и хочу спросить: ты уже спишь? но вовремя спохватываюсь, что спросить надо: ты уже встал? Однако сегодня мне слишком трудно сказать: «Доброе утро», и я тихо кладу трубку, я так отчетливо, всем лицом, ощущаю знакомый запах, что мне кажется, будто я уткнулась Ивану под мышку и вдыхаю этот запах, который про себя называю запахом корицы, это он не давал мне, сонной, уснуть, ибо был единственным живительным запахом, позволявшим мне вздохнуть с облегчением. Стена не поддается, не желает поддаваться, но я заставлю ее открыться там, где в ней трещина. Если Иван не позвонит мне прямо сейчас, если он больше никогда не позвонит, если он позвонит только в понедельник, что я тогда сделаю? Не какая-то формула приводила в движение Солнце и светила, одна я, пока Иван был рядом со мной, сумела привести их в движение, не только для себя, не только для него, но и для других людей, и я должна рассказать, я буду рассказывать, скоро уже не останется ничего, что помешало бы моему Воспоминанию. Только нашу с Иваном историю, поскольку у нас ее нет, нельзя будет рассказать никогда, так что пусть никто не ждет рассказа о любви девяносто девять раз и сенсационных разоблачений из австро-венгерских спален.
Не понимаю я Малину, который сейчас безмятежно завтракает перед уходом на службу. Мы никогда не поймем друг друга, мы с ним как день и ночь, он бесчеловечен со своими нашептываниями, своим молчанием и своими невозмутимыми вопросами. Ведь если Ивану не дано больше принадлежать мне, как я принадлежу ему, то в один прекрасный день он начнет жить обыкновенной жизнью, и она сделает его заурядным, с ним больше никто не будет носиться, но, возможно, Иван ничего другого и не хочет, кроме своей простой жизни, а я с моим молчаливым любованием, с моей явной неспособностью играть, с моими неловкими признаниями из словесных осколков, часть жизни ему осложнила.
Иван сказал мне, смеясь, но только раз: «Я не могу дышать там, куда ты меня ставишь, пожалуйста, не так высоко, не тащи больше никого в этот разреженный воздух, очень тебе советую, усвой это на будущее!» Я не сказала: «Но кого же я буду после тебя?.. Но ты же не думаешь, что я после тебя?.. Лучше я все это усвою еще для тебя. И больше ни для кого».
Мы с Малиной приглашены к Гебауэрам, но не болтаем с другими гостями, которые стоят в гостиной, пьют и что-то горячо обсуждают, а оказываемся вдруг одни в комнате, где стоит бехштейновский рояль, на котором занимается Барбара, когда нас здесь нет. Мне вдруг вспоминается, что играл мне Малина в первый раз, перед тем как мы с ним начали разговаривать по-настоящему, и мне хочется его попросить сыграть для меня это еще раз, но потом я сама подхожу к инструменту и начинаю стоя неумело подбирать мелодию.

Малина не реагирует, во всяком случае, он делает вид, будто рассматривает картины — портрет работы Кокошки, который якобы изображает бабушку Барбары, несколько рисунков Свободы — и две маленькие скульптуры Ванчуры, которые он давно знает.

Теперь Малина все-таки поворачивается, подходит ко мне и, оттеснив меня, садится к роялю. Я опять становлюсь позади него, как в тот раз. Он действительно играет и то ли говорит, то ли поет, но так, что слышу его одна я:
Вскоре мы попрощались и пешком, в темноте, пошли домой прямо через Городской парк, где кружат мрачные, гигантские черные бабочки и в лучах чахоточной луны громче звучат аккорды, в парке опять разлито вино, что только взглядом пьешь, и опять цветет кувшинка, что служит лодкой, и все это опять — тоска по дому, и какая-то пародия, и какая-то подлость, и серенада перед возвращением домой…
Читать дальше