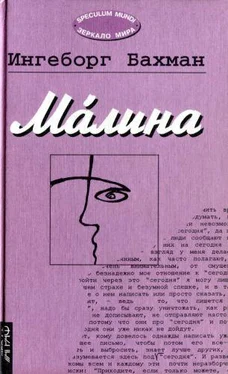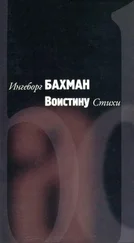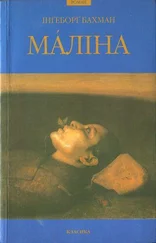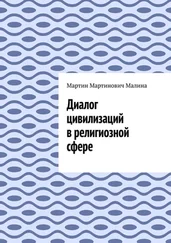Я была все время ужасно робка, нерешительна, мне надо было подсунуть ему мой номер телефона, мой адрес, но в его присутствии я была слишком поглощена поразившей меня загадкой и не могла этого сделать. Легко, вероятно, угадать пусть и не буквально каждую, но каждую вторую мысль какого-нибудь Эйнштейна, Фарадея, какого-нибудь светоча, скажем, Фрейда или Либиха, ведь все это люди без настоящих тайн. Однако красота и ее безмолвие много выше. Этот механик, которого я никогда не забуду, к которому я ходила как на богомолье, чтобы под конец просто потребовать счет, и больше ничего, был для меня важнее. Для меня он был важнее. Ибо мне недостает красоты, она более важна для меня, я хочу обольстить красоту. Иногда я иду по улице и едва замечу кого-то, кто лучше меня, как мне хочется пойти, побежать за ним следом, — разве это естественно, нормально? Кто я — женщина или нечто диморфное? Если я не вполне женщина, то кто же я тогда? В газетах часто печатают жуткие сообщения. В Пётцлейнсдорфе, на лужайках Пратера, в Венском лесу, на каждой окраине убита, задушена какая-то женщина, — со мной это тоже чуть было не случилось, но не на окраине, — удавлена каким-то жестоким типом, и я каждый раз думаю: ею могла быть ты, ею будешь ты. Неизвестная, убитая неизвестным преступником.
Под благовидным предлогом я пошла к Ивану. Мне так нравится крутить его транзистор. Я уже много дней опять живу без новостей. Иван советует мне, чтобы я наконец купила себе радиоприемник, раз уж я так люблю слушать известия или музыку. Он считает, что тогда мне будет легче вставать по утрам, как, например, ему, а ночью у меня будет средство против тишины. Я пробую медленно крутить ручку настройки, осторожно ищу в эфире, что может выступить против тишины.
В комнате слышится взволнованный мужской голос: «Дорогие радиослушательницы и радиослушатели, сейчас у нас на проводе Лондон, наш постоянный корреспондент доктор Альфонс Верт, господин Верт сейчас передаст нам сообщение из Лондона, еще минуту терпения, включаем Лондон, дорогой господин доктор Верт, мы уже вполне хорошо вас слышим, я бы просил вас, для наших слушателей в Австрии, о настроениях в Лондоне после падения фунта, даю слово господину Верту…»
— Выключи, пожалуйста, этот ящик! — говорит Иван, которого сейчас не интересуют взгляды из Лондона или из Афин.
— Иван!
— Так что же ты хочешь сказать?
— Почему ты совсем не даешь мне говорить?
У Ивана в прошлом, должно быть, есть какая-то история, он попал в циклон, и думает, что у меня тоже имеется история, обыкновенная история, в которой присутствует по меньшей мере один мужчина и подобающее разочарование, но я говорю:
— Я? Ничего, я ничего не собираюсь говорить, я хотела просто сказать тебе «Иван», вот и все. Но могла бы тебя спросить, какого ты мнения о препаратах «Флайт»?
— У тебя что, есть мухи?
— Нет. Я пытаюсь вдуматься в жизнь мухи или подопытного кролика, которого терзают в лаборатории, в жизнь крысы, которую усыпляют уколом, но напоследок она, пылая ненавистью, еще изготовляется к прыжку.
— С такими мыслями тебе век не радоваться.
— А я и не радуюсь, у меня бывают минуты, когда я никакой радости не испытываю. Знаю, мне надо почаще радоваться.
(Не могу же я сказать моей радости и моей жизни, которая зовется «Иван»: «Ты один — и радость и жизнь!» Ведь тогда я еще скорее могу его потерять, я уже и так его теряю, я замечаю это по тому, что в последние дни меня постепенно покидает радость. Не знаю, с каких пор Иван укорачивает мне жизнь, — я должна когда-нибудь начать с ним говорить.)
— Ведь кто-то меня убил, кто-то все время хотел меня убить, тогда я тоже начала кого-то мысленно убивать, то есть нет, не мысленно, все вышло по-другому, мысленно ничего серьезного не сделаешь, все вышло тогда по-другому, я даже преодолела это в себе, больше я мысленно ничего не делаю.
Иван поднимает на меня глаза, он начал чинить телефонный шнур-удлинитель и, отвинчивая отверткой какой-то винт, недоверчиво спрашивает:
— Ты? Да неужели? Именно ты, моя кроткая дурочка? Но кого же и с чего бы?
Иван смеется и опять наклоняется к штекеру, осторожно наматывая проводок на какой-то винт.
— Тебя это удивляет?
— Да нет, почему же? Если мысленно, то у меня на совести уже десятки людей, которые меня разозлили, — говорит Иван.
Со шнуром он успешно справился, и теперь ему, пожалуй, совершенно все равно, что я хотела сказать о себе. Я быстро одеваюсь, бормочу, мне, мол, сегодня надо пораньше быть дома. Где Малина? Боже мой, скорей бы мне очутиться рядом с Малиной, ведь это опять невыносимо, не надо мне было болтать, и я говорю Ивану:
Читать дальше