– Уже не смогут.
А то давно бы уже он, Шура,
гнил где-нибудь под корневищем, в речке ли рыбу бы кормил .
Коля когда-то с ним охотился.
– При советской ещё власти.
На лосей и на пушного зверя. Сезона два пробродили они в междуречье Рыбной и Песчанки, где у Шуры был участок. Разлюбил охоту Коля – убивать невмоготу стало. Луша ему сказала как-то: «Чудной человек. А чё рыбачишь, рыбу-то не жалко?» – Коля ответил: «Жалко. Но Господь, Он не охотился, но рыбачил и рыбакам ловить помогал. А я Его не милосердней?» – «Господь, Госпо-одь, сравнился тоже… А жить-то как, есть-то чё будем?» – спросила Луша. «Будет день, будет и пища, – сказал Коля. – Проживём, Бог даст, как-нибудь». Годы тогда пошли уже неурожайные , и в магазинах ничего нельзя было купить свободно.
– Лишь по талонам.
И по талонам чё там… тока водку.
Но вот прожили.
Как-то, в один из коротких декабрьских дней, когда они, набродившись с ружьями на лыжах по тайге, пришли к заходу солнца в избушку и начали варить собакам перловую кашу, а себе – суп из рябчика, рассказал Шура Коле:
«Проверяю пасеку. Где – матка старая, смотрю, где – молодая. Перед сезоном, подготовить. Жаришша, пекло несусветное. Хлопат меня кто-то сзади по плечу. Оборачиваюсь. Чёрт, на тебе. Как ты сейчас вот, совсем рядом. В костюме сером, как мужик. Из нагрудного кармана простой или химический карандаш и авторучка золотая торчат. Под пиджаком – тело голое, на теле – шерсть огненно-рыжая. И вот глаза какие-то такие… Сквозь них сосняк – стоял за Рыбной, после снесли его под корень – и небо краем видно было. Говорит мне: Шура, дорогой ты мой товарищ, хватит работать, зной такой, мол, иди в избушку, отдохни, зачем изматывать себя так. А кто, милый ты мой, за меня, спрашиваю, пасеку будет проверять? Я, говорит. А ты, спрашиваю, чё, в пчёлах, что ли, разбираешься? Я, говорит, Шура, и имя знат моё откуда-то, во всём разбираюсь, а в пчёлах и подавно. Ладно, говорю. Пошёл я в избушку. Кружку холодной медоухи выпил, сел возле окна, наблюдаю. Трудится чёрт, и нипочём ему жара. Всё вроде, вижу, правильно делат. В улей дымит, как полагается. Пчёлы не шибко, вижу, сердятся, роем не кружатся над ним, его не жалят. Я ещё кружку выпил медоухи. Прилёг под полог отдохнуть. Будит меня он на закате. Сели мы с ним за стол. Выпьешь? – спрашиваю. Нет, говорит, не пью. Мясо, говорю, есть, сохатина, отведаешь? Нет, говорит, дома поел, сытый. Давай, говорит, Шура, подпишем договоришко. Какой? – спрашиваю. Да, несерьёзный. Я, мол, тебе хороший медосбор нынче гарантирую, а ты мне, дескать, душу свою под это завещаешь. Подумать надо, говорю. Мне, говорит, в одно место сбегать сейчас срочно требуется, в полночь приду, а ты тут думай. Ушёл. Выпил я кружку. Ещё одну. Сижу думаю. И думаю: а чё мне она, душа эта? Я её, один чёрт, никак не чувствую, есть она у меня, нету ли, и если есть, то заболит когда, с ней только мучайся – мне это надо? А медосбор хороший – это дело, можно и взвесить, можно оценить. Чёрт поздно ночью заявлятся… мне показалось, что чуть выпимши…» – сказал Шура так и умолк, лук и картошку опуская в котелок.
«И чё?» – спросил чуть погодя тогда Коля.
«А чё?» – переспросил Шура.
«Подписал?» – спросил Коля.
«Подписал, – ответил Шура. – А как?.. И не жалею. И договор с печатью, настоящий. Храню его, – сказал Шура. – У сестры в городе. Среди важных бумаг».
– Что он наврал-то, не похоже.
Да нет, конечно, не наврал.
Отдыхал Коля, выбрав место и усаживаясь на отвале, уже несколько раз. Раз пять, наверное, не меньше. Опять пристроился, сидит. Уснуть он не боится – выспался. Да и не так теперь уж холодно. Градусов тридцать.
– И в тридцать тоже можно окочуриться…
Кому судьба-то.
Посидел, оттого, что закурить нечего, подосадовал – не до отчаяния, до огорчения. Когда почувствовал, что силы восстановились, подался дальше.
– Ну, хоть немного бы, не отказался…
Бутылка пива бы – и то.
Идёт, не радуясь и не печалясь, почти спокойный, в разные стороны из-под шапки, низко нахлобученной, поглядывает, взгляд не задерживая долго ни на чём. Глаза давно уже привыкли к яркому – чуть только щурит – чтобы в них свет умереннее врывался, не захлестнул их.
Тени, видит, от деревьев на снегу сиреневые. Лежат беззвучно, распластались. На них заметнее, как мыши исчертили снег.
Дали томят отстранённостью душу, влекут к себе; то, что за ними, ли её так соблазняет.
– И чё такое… почему?
За ними что? Да то же самое: за далью даль. Но чем так манят? Словно там то, что ты всё время ищешь. А там – обман. Который и блазнит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
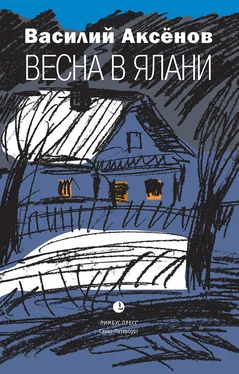

![Василий Аксёнов - Время ноль [сборник]](/books/29609/vasilij-aksenov-vremya-nol-sbornik-thumb.webp)




![Василий Аксёнов - Малая Пречистая [litres]](/books/392707/vasilij-aksenov-malaya-prechistaya-litres-thumb.webp)
![Василий Аксёнов - Золотой век [сборник]](/books/426534/vasilij-aksenov-zolotoj-vek-sbornik-thumb.webp)



