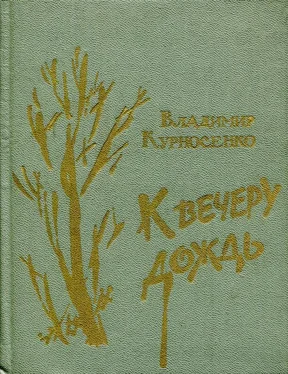А его увезли.
Дома… сотни, тыщи, а в них меж перегородками люди, бездны, тьмы. Не мог, не получалось постичь. Словно это черви на рыбалке: спутано, перепутано, как сами-то разбираются, кому куда?
И потом не постиг, перестал просто думать.
Как бы новое получалось рождение. Второе. Новые рождения после повторятся еще раза четыре, но не так уже заметно, не явно, для новорожденного-то. А тогда явно, куда заметнее. И запах другой, и цвет, и время. Скучал по матери, по Нинке, по младшим братьям, ходил на вокзал, смотрел, как уходили в их сторону поезда. Сбежит, сбежит, само собою, когда подрастет маленько, когда не обузой, не лишним ртом, а помощником вернется. Но дни шли, меняли шкурки, попривык, притерпелся, а там и успокоился. Маму Лену тоже жалко становилось.
Булочки со сливочным маслом, абрикосовый джем.
Сытое, сырое, но не подлое еще по сути время. Мир божий, как яичечко, целенький, законченный; нет у тебя от него тайн, нет тайного недоброжелательства.
Муж мамы Лены подполковник. Шершавенькие холодные звезды на кителе в отполированном шифоньере. Усмешечка его пунктиром от завтрака до вечерней газеты. «Зачем убиваться-то?! С такою к себе любовью племянничек живо на шею к тебе сядет и ножки свесит…» Мудрость. Но мама Лена усмешечки мудрой не видела, не хотела ничего видеть. Словно дорвалась. Трепетала. Мужа обидеть не хотела, но трепетала, трепетала аж. Книжечки эти ее («У лукоморья дуб зеленый…»), иголочка с ниткой во вздрагивающих от нежности губах, теплое ее дыхание над ухом, чирканье мелом по плечам. Очередной костюмчик-матроска Акимушке.
О, де-е-е-е-етство! Пресловутое золотое. Фальшивая задушевность отвзрослевших дураков. Зевок в одну тысячу дней. Скучно, бесправно, зато тепло.
Однако вскоре перестал скучать. В районе открылась новая школа. Для разросшегося политехнического института построили за парком культуры и отдыха новые белые корпуса, а старое здание отдали под школу. Приказ гороно: всех живущих ближе, чем где учился, перевести! Школы сориентировались: избавились под это дело от «золотого фонда». Это был шестой класс, Акимушка учился прилично, его бы оставили при желании в старой 121-й школе, но наивная мама Лена привыкла уважать распоряжения. Бедная, как бы она напугалась, узнай, что на третий уже день два шпанюги-второгодника держали ее Акимушку за руки под лестницей новой школы, а третий, Чарли, бил его в живот серией. В поддых, по ребрам справа и опять в поддых. Красиво и без следов. А то еще пожалуется, пиджачок. Последнее, впрочем, зря. Не пожаловался бы. В деревенской школе, куда он ходил за восемь километров и где в классе с черной круглой печью в углу учительница, как шахматист в сеансе одновременной игры, занималась сразу со вторым и четвертым классами, жаловаться считалось позорнее, чем воровать. Чарли мог не волноваться. Но прощать Акимушка тоже не собирался. Придет время, тихо решил он, и все отсчитается назад. Вся красивая серия. Иначе — куда? Иван Сергеевич, классный руководитель, видно, догадывался про эти дела. Догадывался, но словно не хотел догадаться. Хлопотно, чай, было бы. Акимушка слушал на уроках (Иван Сергеевич преподавал историю) напористые его фразы и как-то чуточку уже усмехался. Однажды, когда те двое подержали его снова за руки, а Чарли плюнул за шиворот, он проснулся ночью и подумал: а почему, собственно, так уж надо быть хорошим? Почему не плохим. Живет же Чарли, и плевать ему, хорош он или нет. Лежал и думал. Завтра, думал, он ударит Чарли перочинным ножиком, подаренным мамой Леной, ударит прямо в классе, возле доски, чтоб видели, чтобы Иван Сергеевич видел, а Чарли пусть лежит на полу, скулит и умирает на глазах у всех. И когда представил, — Чарли лежит и умирает на полу, — понял: убить не сможет. Не из-за трусости или боязни последствий для себя (в гневе забывалось про то и другое), а еще из-за чего-то. Где-то в глубине души будто зналось откуда-то: убивать нельзя.Откуда, он и не пытался в ту пору понять, но чувство ощутилось, и он (что значит ребенок!) поверил ему. Он решил, что не будет убивать Чарли, и успокоился. В те дни он возобновил свои походы на вокзал. Стоял на переходном мосту, глядел на целующиеся железные пятаки буферов (они и раздавили отцу грудь, когда он поскользнулся), вспоминал желтый их домик и как они жили, и немного плакал. Через десять лет в одном из знакомых дворов в центре города он встретит Чарли. С идиотски важным видом тот будет тереть тряпкой старый, явно вручную пересобранный «Запорожец», и по тому, с какой тщательностью и любовью это будет делаться, станет ясно, что машина у Чарли собственная. Подойти, остановить грязную снующую знакомую руку и отсчитать серию назад. В живот, в печень (по правой реберной дуге) и снова в живот. Один к одному. Зуб на зуб. Но — вот странно! — теперь ему не захочется этого делать. Он будет стоять и смотреть на Чарли и не испытает к нему ничего, никакого чувства, даже брезгливости. Чарли вдруг окажется пустым местом, и дело будет словно в чем-то совсем ином.
Читать дальше