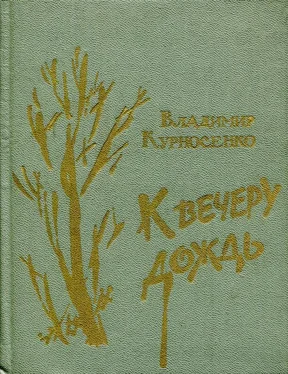Стоял у ворот, в курточке, тот же самый на затылке вихор, и смотрел на нее… Женя.
Дверь гостиницы, за которой исчез Женя, была в резных завитушках, вся в потрескавшемся темном лаке, а ручка с длинной похудевшей от тысяч рук талией… Расчет был довести Женю до номера (мало ли?), но ресторан уже закрыт, и тех, кто тут в гостинице не живет, за порог не пускали, за резную эту дверь. Швейцар, отстранившись, дал Жене дорогу, а ему преградил, для верности толкнул даже в грудь, — неча, неча, мол, ходют тут всякие. Захлопнул перед самым носом. Хоть и брал, скотина, водку два часа назад, хоть и тот же самый швейцар. Стой вот теперь, гляди на эти завитушки, на довоенное сие рококо. А губы как в детстве тянутся еще в улыбку («Ну пропустите, дяденька, ну пожалыста!..»), а водка, остаточки, догорает в крови да со дна откуда-то поднимается уже муть, которой и не надо бы, ох, не надо бы сейчас подниматься. Развернись и уходи побыстрее. Дома, как он услыхал про эту Катю, сам от себя спрятался — потом, потом, не сейчас же о том думать, перепугался. Спать, решил, пойдет сегодня к Карине, и не думать и не вспоминать ни о чем. Так себе решил в голове. Проводит Женю, погуляет чуток и к ней двинется, к Кариночке. Испугался, стало быть, всполошился не на шутку, лысый хрен. И было отчего. Когда Женя рассказывал, в руке его вдруг вспыхнул синий шар — большой, размером с волейбольный мяч — и трахнул, ударил в лицо, в самые куда-то глаза. Как будто электрический разряд или молния шаровая… Кто знает, может, и шаровая. На секунду даже сознание пропало: и тишина, и темень в глазах с зелеными поплывшими пятнами, и стук еще какой-то вдалеке, деревом словно по дереву. А после оказалось, опять они за тем же на кухне столом, и Женя все еще рассказывает и кивает сам себе головою, как старушка. А возможно, что и померещилось. Все возможно. Да только вот Женя теперь ушел, и швейцар ушел, и стой теперь тут перед чужой дверью дураком, и гнусно. Что ж, пошел к остановке. Если бодрым шагом, до Карины минут тридцать пять, но не хотелось, однако, пешком, лучше троллейбусом. И глаза, и голоса все-таки, и кто-то, может, спросит про время. Сколько, спросит, сейчас времени, и скажет после «ага» и кивнет. Предночная уютная жизнь городского транспорта. Приготовился было ждать, но почти тут же выкатил из тьмы знакомый улыбающийся троллейбус под номером 5 и подставил дырявой дверью бок: садись, Аким Алексеевич, чего уж. Сел. Свободных мест было много, время-то позднее, имелась даже возможность занять место у окна на предпоследнем сиденье, на любимом. Уселся, отер рукавом испарину со стекла, комфорт так комфорт. А ведь Карина ему вовсе не обрадуется! Не-а. Иди, скажет, уходи отсюдова. Или хуже, «а-а», скажет, «это ты-ы…» Явился не запылился. С легоньким как бы презрением, устало даже. Но он все равно не уйдет, стерпит. А ей не хватит злости его не впустить, не хватит, не хватит, поди. И сядут они в ванной, рядышком, так просто, незаметненько, не он вроде бы, и не она. Покурим? Покурим! Отчего ж не покурить. И покурят, покурят. Ну, как, спросит он, как тут у вас Сашка поживает? Ох, Сашка, закачает она головой, ох уж этот мне Сашка! И зевнет. «Сашка опять…», — и разговорится, разболтается, и про работу свою, и про кто что сказал («А я прям так ей и ответила…»), развеселится даже, расхохочется мелким по крыше дождичком. И он подождет немного и примется ее целовать — молча, молчи, помолчи-ка, да замолчишь ты, баба, или нет? А там: или — или. Как у нее настроение. Ладно, думал, хватит об этом. Что будет, то будет. Все равно.
За окном ночь. Фонари мажутся по стеклу светлыми длинными кляксами. Катит троллейбус, покачивает своих пассажиров.
Вон женщина георгины везет. Мест свободных полно, а она не садится, стоит с букетом своим, задумалась. О чем, спроси, думаешь-то, — сама не найдется ответить. А красивая! Красивая, хоть и не молодая уже. И не злая, спокойная красота, без раздражения, без тревоги, тихая. И георгины под стать — розовые, тяжелые, будто все еще влажные. И ковыльная тонкая травка вокруг. С дачи, наверное, едет, припозднилась. Муж откроет, у-у, скажет, припозднилась-то как! А она ему в нос букет — видал?
А пьяный спит. Тоже домой, видать, добирается. Привалил к окошку голову и спит себе. Спи, спи, пьяный, не просыпайся пока. Может, сон тебе вещий приснится!
И все-таки… что там за Катя еще за такая? Неужто вправду он забыл? Или нарочно? Очень хотелось забыть, очень уж гнусно на себя было — и забыл. Забыл.
В день, когда голодал я,
Читать дальше