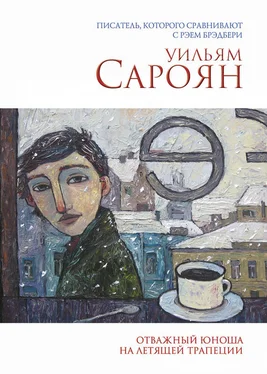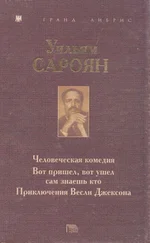– Могу себе представить, – говорю я, – но мне не хочется этим заниматься.
– Мы платим пятьдесят долларов в неделю, – говорит молодая дама, – и вам присвоят звание старшего лейтенанта. Вы будете участвовать во всех военных мероприятиях по связям с общественностью, и смею заверить, вы сможете завязать множество знакомств, которые пригодятся вам после войны.
Полсотни долларов в неделю – я и помечтать не мог о таких деньгах, и я очень интересуюсь людьми.
– Извините, – говорю я, – эта работа не по мне.
Дама уходит, посоветовав хорошенько обдумать ее предложение. Она остановилась в одном из лучших отелей города и спрашивает, не загляну ли я к ней вечерком выпить и поболтать о том о сем. Я и сам себя об этом спрашиваю.
Спустя две недели ко мне приходит кузен Керк-младший с утренней газетой, где написано – всех годных к военной службе мужчин принудят участвовать в войне, которая идет совсем не так гладко, как хотелось бы нашей стороне. Наши потери почти столь же велики, как у противника, – около миллиона убитыми и вдвое больше ранеными. Неделями идут кампании по подписке на Заем свободы и массовые демонстрации. Газеты выходят под жирными заголовками.
Я читаю новости и присаживаюсь выкурить еще одну сигарету.
– Значит, они таки меня заграбастают, – говорю я.
– Что ты намерен делать? – спрашивает кузен.
– Я не дам втянуть себя во все это, – отвечаю я.
Через пять дней я получаю письмо с приказом явиться на следующее утро в штаб полка в восемь часов. На следующее утро в восемь я сижу в своей комнате, сочиняю рассказ. В два часа одиннадцать минут пополудни ко мне пожаловал коротышка мистер Ковингтон, первым посетивший меня, в компании четырех ему подобных. В коридоре стоят двое из военной полиции, а внизу – два больших роскошных автомобиля.
– Энрико Стурица? – говорит мистер Ковингтон.
– Да, – отвечаю я.
– Как председатель окружного Комитета по рассмотрению дел о дезертирстве, то есть 47-го округа Сан-Франциско, я должен допросить вас в связи с вашей неявкой на сборный пункт сегодня утром. Вы получили официальное письмо за номером 247-Z?
– Думаю, письмо, которое я получил, было официальным письмом номер 247-Z, – отвечаю я.
– Вы прочли его?
– Да, прочел.
– В таком случае будьте любезны объяснить, почему вы не явились сегодня утром на сборный пункт?
– Да, – вторит ему другой коротышка, – почему?
– Да, почему? – вопрошает второй.
– Да, почему? – любопытствует третий.
Четвертый, я полагаю, не умеет говорить. Хранит молчание.
– Мне нужно дописать короткий рассказ, – отвечаю я Комитету, – который я писал, когда вы оказали мне честь вашим посещением.
– Я требую прямого ответа, – говорит мистер Ковингтон. – Неужели вы были так больны, что не смогли явиться на сборный пункт?
– Нет, – отвечаю, – я был вполне здоров да и сейчас пребываю в добром здравии. Никогда в жизни не чувствовал себя так превосходно.
– Тогда, – говорит мистер Ковингтон, – я вынужден, как это ни прискорбно, объявить вам, что вы арестованы за дезертирство.
Я возвышаюсь над машинкой и смотрю на пачку чистой желтой бумаги. Я думаю про себя: вот моя комната, и я создал в ней миниатюрную цивилизацию, и она стала моей вселенной, и у меня нет никакого желания уходить отсюда. И тут я как врезал мистеру Ковингтону, и он на полу. Изо всех сил бью второго комитетчика, но они хватают меня за руки – четверо комитетчиков и двое из военной полиции, и лишь одна мысль проносится у меня в голове: а катитесь вы все со своей войной, ублюдки, ретрограды, угробившие миллионы жизней в прошлую войну. Идите и воюйте себе, но я не могу ничего вымолвить. А один из комитетчиков говорит: если мистер Ковингтон умрет, мы вас расстреляем, мистер Стурица, нам придется, как ни прискорбно, исполнить наш долг и расстрелять вас, мистер Стурица. Если мистер Ковингтон не умрет, вы можете отделаться двадцатью годами тюрьмы, мистер Стурица. Но если умрет, нам придется, как ни прискорбно, исполнить наш долг и расстрелять вас. И, спускаясь по лестнице, престарелый коротышка все талдычит мне одно и то же без умолку.
Равнина, Бог и безмолвие разума, запутанные коридоры, колонны, места, где мы ходили, лица, которые видели, и пение маленьких детей. Но превыше всего – иероглифы, письмена, святость, фигура в камне, простая линия, наш язык, четкие очертания… листьев, мечты, улыбки, падение руки, касание тел, любовь к мирам, вселенным; нет страха смерти, только немного тоски. Да, Боже, и свет – наше солнце, и отблески его, утренние зори, отгоревшие во времена великанов и пигмеев, некто по имени Бах, некто по имени Сезанн и прочие, чьи имена забылись; массы людей предстают в одном безымянном обличье, в нашем облике; скорбь безвестных толп; наша форма, стать; люди, шагающие по свету, – Азия, Европа, Африка – за морем сознания и волн, по ту сторону Атлантики, на западе – Америка – марширует морская пехота, усмехается бледный Вильсон; свободу Литве, слава Польше и графствам Техаса; душистые дыни и бедность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу