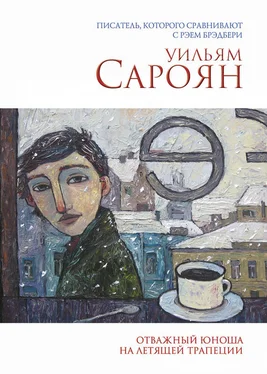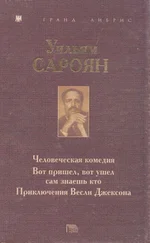– Сейчас пришлю тебе девочку, – сказала она, уходя.
Затем он представил, как он выглядит с высоты тверди небесной: сидит покорно в комнатушке, курит, замаранный, вывалянный в грязи в каждый миг своей жизни, с первого до нынешнего, но не желает встать и уйти, а хочет познать себя – сильный он или слабый, смешно ему или не до смеху.
Через полчаса – всего-то полчаса! – он спускался по лестнице, прокручивая в голове все грязные подробности, лицо, руки, тело и как все происходило. И леденящую душу смертельную тишину, бессилие, неспособность смеяться, истинное уродство.
Потрясенный, он бежал из китайского квартала в ужасе и негодовании. Он увидел, что этот мир пошлый, плоский, дешевый, продажный и бессмысленный. Но хуже всего то, что он увидел себя – человечишку – безмозглую дешевку, себя – продажного, бессовестного, дрянного. И хотел посмеяться над собой, но не смог. Он хотел посмеяться над всем миром, лживостью всего живого, но не смог.
Он бродил по городу, не зная, куда идти и зачем он болтается здесь и боится самой мысли о возвращении домой. И все, о чем он мог думать, – это отвратительная мерзость истины, извечная мелочность человека и притворство человечества.
Он долго слонялся и, наконец, вернулся в отчий дом. Когда его позвали к столу, он сказал, что не голоден, отправился к себе в комнату, взял книгу и попытался читать. Слова на страницах были уклончивы, подобно всему остальному. Он закрыл книгу и попытался сидеть и не думать, но это было невозможно.
Он не мог отделаться от чувства продажности всего на свете, бессилия, бесчестия, неспособности смеяться.
Мать забеспокоилась и, стоя у его двери, услышала его плач. Поначалу она не поверила своим ушам, но потом поняла, что это неподдельный плач, как временами ее собственный, и она подошла к отцу мальчика.
– Он там один. Плачет, – сказала она мужу. – Сэмми, наш сынок, плачет, отец. Сходи к нему, отец. Я боюсь. Узнай, почему он плачет.
И бедная женщина сама расплакалась. Она почувствовала, что, наконец, он стал как все, маленький, беззащитный мальчик, ее сынок, и все твердила:
– Отец, Сэмми плачет. Он плачет, отец.
Дорогой М.!
Хочу сообщить тебе, что сегодня в Сан-Франциско очень холодно. В моей комнате такой колотун, что, как только я берусь за короткий рассказ, меня сковывает холод, и мне приходится вставать и делать упражнения, чтобы согреться. Значит, нужно принимать какие-то меры, чтобы сочинители коротких рассказов могли работать в тепле. Бывает, в стужу мне удается писать весьма недурные вещи, а в другое время – не удается. То же бывает, когда погода великолепна. Мне очень досадно, когда день проходит, а рассказ так и не написан. Вот поэтому я и пишу тебе – знай, как я зол на погоду. Не думай, что я сижу в уютной теплой комнате в пресловутой солнечной Калифорнии и выдумываю всякую всячину про холода. Я сижу в страшно холодной комнате, и солнца не видать. Единственное, о чем я способен говорить, – это о холоде, потому сегодня у нас, кроме холодов, ничего не происходит. Я так замерз, что зуб на зуб не попадает. Интересно знать, заботилась ли когда-нибудь демократическая партия о замерзающих авторах коротких рассказов? А то у всех остальных отопление есть. Приходится надеяться на солнце, а зимой на него не понадеешься. Вот в какой переплет я попал: хочется сочинять, да не можется, а все из-за холодов.
Прошлой зимой солнце однажды заглянуло в мою комнату, и его лучи упали на мой стол, согрев его, комнату да и меня. Я на скорую руку сделал несколько упражнений и сел за рассказ. Но день-то был зимний, и не успел я написать первый абзац, как солнце спряталось за облака, а я остался сидеть и сочинять в холоде. Рассказ получался отменным, и, даже зная, что его никогда не напечатают, я все равно не мог от него оторваться. В результате, пока его дописывал, я окоченел. Лицо посинело, и я с трудом шевелил одеревеневшими руками и ногами. В моей комнате дым стоял коромыслом от сигарет «Честерфилд», но и он застыл. Дым клубился по комнате, и все равно было жутко холодно. Как-то во время работы мне пришло в голову раздобыть таз и развести в нем огонь. Я надумал развести костерок из полдюжины своих книг, чтобы согреться и закончить рассказ. Я нашел старый таз и притащил домой, но когда я огляделся по сторонам в поисках книг на растопку, то ни одной не нашлось. Все книги у меня ветхие и дешевые, их около пятисот, и за большинство я заплатил по пять центов. Но когда я стал искать, какую бы сжечь, ни одной такой не нашлось. Вот, скажем, объемистая тяжеленная книга по анатомии на немецком, из которой получился бы отличный костер, но когда я раскрыл ее и прочел всего одну строку на этом прекрасном языке: sie bestehen aus zwei Hűftgelenkbeugemuskeln des Oberschenkels, von denen der eine breitere и так далее, – рука не поднялась. Это было выше моих сил! Я не понимал языка, ни единого слова во всей книге, но она была слишком красноречива, чтобы ее сжигать. Года два-три назад она обошлась мне в пять центов, весила фунтов шесть и даже в качестве дров представляла выгодную сделку, и я мог бы вырывать страницы, чтобы развести огонь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу