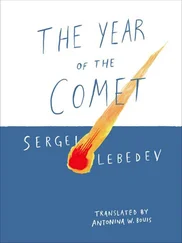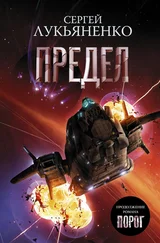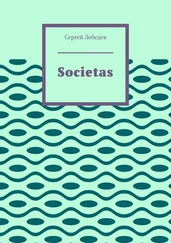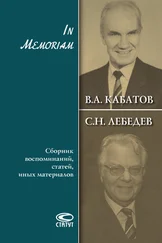И вот теперь, стоя в комнате, куда привели меня почтовые открытки из бумаг Второго деда, я почувствовал, что произошло одно из самых, может быть, значительных событий моей жизни: то, что скажет нам о нас самих, существует в раздробленности, оно разнесено в пространстве и времени, и чаще всего мы не знаем чего-то самого важного относительно себя, что, однако, уже есть; я вспомнил второй путеводный сон, где были машинист поезда и его ссыльный брат, навсегда разминувшиеся друг с другом у арестантского эшелона, сошедшиеся, чтобы не встретиться; я почувствовал, как моя жизнь преломляется в мгновении настоящего, как луч — в увеличительной линзе, преломляется и выстраивается этой линзой понимания; я узнал то, за чем ехал, — и это знание, оказывается, всегда было со мной, в моей памяти.
В сущности, это был конец пути, я мог выйти из комнаты и возвратиться домой; однако я вдруг вспомнил, что дверь крепко, слишком крепко заперта. Понятно, что я мог попросить открыть ее, более того, мне так и хотелось поступить; я рвался выбраться, рвался обдумать то, что случилось; но дверь еще не открывали. И постепенно я осознал, что мне предстоит узнать что-то еще, понять что-то, и мое существо противилось этому близящемуся пониманию. Однако уйти означало — уйти, поступить произвольно.
Должно было выйти не раньше, чем сами хозяева откроют мне дверь; должно было взять от этой встречи не только то, что я желал узнать, но и то, что разум — в предощущении — отторгал; что обещало не возвращение домой, а какой-то другой, новый путь.
Старик поднялся из кресла мне навстречу; я отпрянул. Передо мной стоял постаревший ребенок, телесно — подросток лет тринадцати-четырнадцати; к нему уже не было применимо понятие худобы — он был не просто худ, а иссушен, словно его выпили, опростали, накололи на иглу, как насекомое, и годы держали под стеклом на бархате. Мышцы его истаяли, остались лишь сухожилия, кожа на торсе стала прозрачной, как пергамент тонкой выделки, и обнажилась вся внутренняя жизнь тела: сизые, с отливом голубиного крыла кровеносные сосуды сплелись в карту кровотока, и то тут, то там возникали на ней темные, как раздавленные ягоды черники, области подкожных кровоизлияний. Старик был полуодет, он страдал еще и оттого, что тело не может выдавить ни капли пота, не может выгнать с потом эту расползающуюся под кожей смерть; лица — в человеческом понимании — у него уже не было, плоть расплавилась, как масло, от крепнущего внутреннего жара, и дергающиеся зрачки смотрели прямо из черепа. Хрящи ушей уже обвялились, как копченое мясо моллюска, брови и ресницы выпали, только слабый, будто опаленный, детский пушок покрывал надбровные дуги; воспаленные капилляры на щеках слились в тонкую вязь иероглифов, выписанных багровой тушью; старик умирал от хронической лучевой болезни, когда-то он получил малую дозу радиации, которая отозвалась в теле только сейчас; пресеклась способность кроветворения, кровь в его сосудах не обновлялась, и он медленно отравлялся проживаемой — и прожитой — жизнью, отравлялся прошлым, его шлаками и ядами, копящимися в тканях тела. Его убивало время — в буквальном смысле; и я, стоящий перед ним, был для него воплощением этого нового времени; он ненавидел меня, это было ясно по стиснутым зубам — он забыл, что усохшие губы уже не прикрывают их; челюсти его были вставными, гладкими, белыми, и я вспомнил вставные зубы Второго деда.
Я передал старику его собственное письмо; он прочел, кивнул, показывая, что понимает, кто я, и заговорил. Он сказал, что знает, как умер Второй дед, знает, что мне перелита его кровь, — Второй дед объяснил домработнице, кому сообщить, если с ним что-то случится, и велел держать поручение в секрете от моей семьи.
Старик ждал — зачем я пришел, и я спросил, не осталось ли каких-то бумаг, может быть, фотографий; спрашивать его о Втором деде — начальнике лагеря, о том, каковы были их отношения, мне не хотелось, все было и так ясно.
Старик велел мне взять в шкафу альбом, вынуть из прорезей поздравительную карточку; за ней была фотография.
На черно-белом снимке за давностью лет почти не осталось ни черного, ни белого, все выцвело; казалось, что фотограф снимал не реальный мир, а фотографировал воспоминание.
На снимке были люди, они собрались что-то торжественно открывать, среди них я узнал Второго деда; и лишь одна точка как бы выступала из фотографии — пятнышко черноты в том месте, где лопата в руках Второго деда отбросила ком земли. Эта ямка была темна, она притягивала взгляд, как родинка на щеке. И я понял, что из этой ямки возник карьер, который я видел накануне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



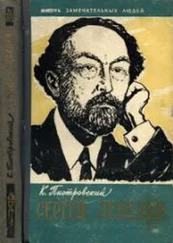

![Сергей Лукьяненко - Предел [litres]](/books/384448/sergej-lukyanenko-predel-litres-thumb.webp)