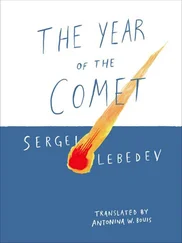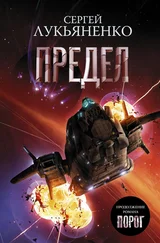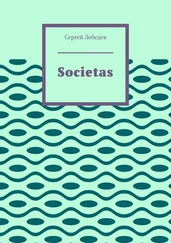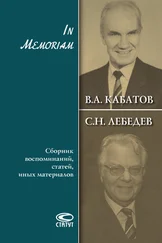Ближний берег был еще освещен, выплавлен из закатного света, а дальний уже скрыла тьма, и к нему-то и правил гребец; затемненный берег рассекал глубокий овраг, из него в реку впадал язык черноты.
Поезд мчался, из-за его скорости все за окнами было медленным, как бы уже совершившимся, неизменным: гребец не мог повернуть, ветер не мог скользнуть рябью по реке, луч не мог разогнать темноты, и мы переехали на темный берег, помчались туманными лугами поймы, где все было бархатным, как крыло летучей мыши, молчащим и недвижным; в последних вагонах еще видели реку, лодку, свет, а голова поезда уже внедрилась в сумрак, в крылатое молчание птиц, круживших над лугами; редкие старицы курились, отдавая дневное тепло, и лишь по таким дымкам можно было понять, что здесь еще этот свет, что холод ночи здесь не вечен.
Почуяв ночь, цветы у окна стали сворачивать лепестки; уснул и запах, прекратилось его истечение; и только в глазах, пока я не уснул, держались сияние реки, темное пятно лодки и гребца, долгие тени деревьев. На что бы я ни смотрел, куда бы ни направил взгляд, все заслоняли золотистая река, движение весел, и мир стал вторым планом, чем-то, что помнишь только сквозь другое воспоминание, что отдаляется, как берег для стоящего в лодке; и только сквозь свечение воды виделась мне прошлая жизнь, ставшая вдруг очень далекой, менее чувственно ощутимой, чем воронки от весел на дымчатом вулканическом стекле воды.
С поезда я сошел ранним утром, темным из-за непогоды; пассажиры — а их было немало — как-то удивительно ловко исчезли. Только что они были — кашляющие, кряхтящие, матюкающиеся, с громоздким дорожным скарбом, с коробками, рюкзаками, сумками, тележками, которых всегда больше, чем места в плацкарте, путешествующие тяжело, натужно, поминутно сплевывающие, работающие мышцами и локтями; только что кровь приливала к лицу, сгибались спины, все что-то куда-то несли, тащили, волокли — и вот уже нет никого, только оставшиеся без клиентов таксисты курят у машин и смотрят, как грызутся на привокзальном пустыре собаки.
Я прошел через сквозные двери вокзала. За столиками в вокзальном кафе сидели два милиционера и двое в кожаных куртках; все четверо были одинаковы. Такие лица бывают у тех, кто в тринадцать-четырнадцать лет начинает ускоренно расти: телесная ловкость не успевает за растущими мышцами, и на год-два подросток превращается в увальня. В лицах и было это выражение подростковой тупости — словно бы каждый из сидящих от излишка мяса в теле чувствовал теперь только желудком и членом; на столике стояли тарелки с шашлыком и жареной картошкой, бутылка водки, в проеме двери маячила подавальщица.
Четверо сидели как привратники того мира, в который я вступал; в зале ожидания пахло отрыжкой, капающей изо рта в похмельном сне слюной, потом и куревом; на скамьях лежали, укрывшись с головой, люди, привычные к бесприютному сну, — на полу, на баулах, на третьих полках, на койках общежитий, на нарах КПЗ; каждый складывался, сгибался, чтобы было теплей, — но казалось, затем, чтобы выглядеть так, будто тебя уже ударили — и не надо бить еще, довольно. Я и сам умел спать так — чувствуя во сне не сердце, а бумажник; я спал и в местах похуже, но здесь, проходя сквозь зал, я еще был с поезда, где ты все-таки пассажир и на что-то, как ты думаешь, имеешь право — и для четверых, сидящих за столиком, я тоже был пассажир: блатной язык точен в легкой афористичной презрительности к тем, кто полагает, будто это он куда-то едет, а не его везут.
Автобус в город уже ушел или еще не пришел; тот бесконечно емкий промежуток времени, который учит существовать в иррегулярности, обживаться в ней, улавливать токи вероятностей.
У остановки были клумбы из раскрашенных автомобильных шин; я выкладывал такие на школьных субботниках. И я признал как свое это знакомое нищенство, вторую жизнь вещей, возмещающую недостаток необходимого; клумбы из шин и бутылок, вкопанных кверху донцем, кормушки из молочных пакетов, пепельницы из консервных банок. Родившийся и выросший среди них, я думал теперь: а только ли с вещами это происходит? А что, если и мои чувства, мысли — тоже вынужденная подмена чего-то настоящего? Вдруг моя любовь — не любовь вовсе, а такая же клумба из шины с заплеванными бархатцами?
К остановке подрулила машина; черная «Волга» с антенной — чей-то шофер калымил поутру. Открылась дверца; внутри «Волга» была похожа на берлогу: чехлы из темного, с длинным волосом искусственного меха на сиденьях, тонированные стекла, все чуть потрепанное, слегка нечистое, несвеже пахнущее от жара печки; водитель был такой же — в шерстяной безрукавке, оставляющей открытыми локти, в вельветовых штанах, толстый, золотозубый, небритый, с косящими от оглядки по зеркалам заднего вида глазами, дикий спросонья, но хваткий, из тех, кто любит мелкое жонглерство — выщелкнуть пальцем сигарету, поймать ее ртом, — думая, что в этом есть щегольство, удаль; такие чаще идут в таксисты, чем в личные шоферы, кучкуются, встречая поезда, в маленьких городках, но ты трижды подумаешь, прежде чем сесть в машину. Такое такси не везет, а увозит, даже знакомый путь делается в нем чуточку незнакомым; от таксиста тянет не опасностью, но беспокойством — то ли сбил пешехода в дождливую ночь и дал газу, то ли обокрал пьяного пассажира, то ли чем-то торгует из-под полы, — и деньги на сдачу у него обязательно найдутся ветхие, замусоленные, словно им не давали полежать в кошельке, а снова и снова пускали по рукам, мяли, комкали, жадно распихивали по карманам. От этих купюр — одна надорвана, вторая с пятнышком крови, на третьей записаны какие-то цифры — тоже будет тянуть чем-то жалко-запретным, какими-то пьяными уговорами, расчетами под хмельком, вытребованными долгами, вытертой клеенкой магазинного прилавка, закапанной рассолом от селедки; и будет казаться, что полдороги таксист решал, везти ли тебя туда, куда тебе нужно, или свернуть в какой-нибудь проулок или перелесок, которые для тебя — незнамо где, сказать, что спустило колесо, посмотреть, как ты себя поведешь…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



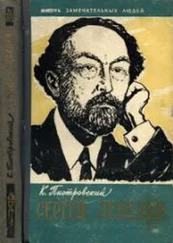

![Сергей Лукьяненко - Предел [litres]](/books/384448/sergej-lukyanenko-predel-litres-thumb.webp)