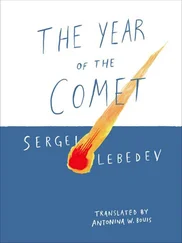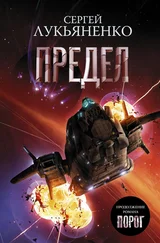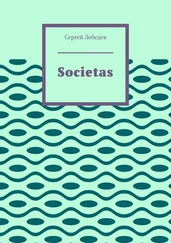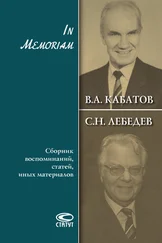Даже во сне меня поразила обыденность, легкость, с которой случилась эта не-встреча; события избегали соединиться друг с другом, существовали разрозненно, бессвязно, и то, что могло стать трагедией — в роковой момент брат узнал брата, — ею не стало.
В это время на дальнем перроне построился оркестр; репетировали встречу какой-то делегации. Но музыка не заладилась, музыканты не фальшивили даже, а просто не смогли вывести мелодию. Тогда вышел мальчик — он должен был читать приветствие от пионерии; однако и рифмованная речевка запнулась, чтец будто проглотил половину текста.
Ни музыки, ни стихов; почему-то стихи остановили мое внимание. Я понял, что слова в них посредством рифмы должны будто часовые окликать друг друга, видеть друг друга, и благодаря этому всегдашнему бодрствованию слов, их взаимному видению, возникает особая смысловая оптика текста, создающая поэтическое прозрение: возникает смысл, которого не получить иначе, чем через такую оптику.
Стихи — и трагедия; первые трагики писали гекзаметром, возгоняя состав событий — до трагедии, до точки, в которой разрывается слепая причинность и человек получает абсолютное зрение по отношению к себе и собственной судьбе, прозревает драматический смысл всего ее космоса. Это прозрение и делает трагедию — трагедией, откровением бытия, а когда бытие не откровенно человеку или он не способен восприять это откровение, есть только безысходные муки и страдания.
И события, которые должны претвориться в трагедию, но не претворились, в некотором роде никогда не случаются в полной мере; они происходят, но не исчерпывают собой действие причин, их породивших; рок не разрешается через них, а умножается и повторяется.
И последующие поколения сохранят раздвоение памяти, будут вынуждены ретроспективно, посредством нравственных оценок, вменять трагедию времени, в котором ее в бытийном смысле не случилось, а то, что случилось, называется как-то иначе.
Я знал, что машинисту никогда не откроется, кого он вез в арестантском вагоне, и его брат, сосланный на поселение туда, где протоколы заседаний райкома велись на бересте, где бумага была ценнее гвоздей, уже никогда не пошлет о себе весточки.
Эшелон трогался с запасных путей. В детстве, выходя к железной дороге считать вагоны и гадать, что в них, ты иногда встречал слишком длинный состав, который казался поездом-который-не-кончается, единственным на свете. Так и эшелон тянулся, тянулся за поворот, клубился пар, мерцали семафоры; потом вагоны все-таки заканчивались, и взгляд прицеплялся к запертой двери хвостового; казалось, она чуть-чуть приоткрыта, и в этой приоткрытости была последняя возможность что-то сделать, усилием воли преломить течение сна; но поезд уходил, а дверь оставалась перед глазами: так начинался третий сон.
Дверь эта сначала сохраняла свой облик, потом становилась просто дверью, потом менялась — каждый раз, когда сон повторялся, она была новой; дверью комнаты, парадного, кабинета; дерево, металл, ручка, замок — все преображалось. Оставалось лишь одно — приоткрытость, будто бы мгновение, когда дверь уже почти закрылась, погрузили в субъективное, не имеющее для спящего протяженности время сна, и оно бесконечно длилось, но я не мог чувствовать этой длительности — я ощущал лишь одно мучительное «почти»; то, что обозначало это слово, стало из наречия подобием существительного, отвечало на вопрос «что?», а не «как?». Дверь была уже не открыта, но еще не закрыта; причем я знал, что если она закроется, то не откроется уже никогда, исчезнет, и останется лишь непроницаемая стена.
Я тянулся к ней, ища клин, чтобы вбить его между дверью и косяком, — и почти успевал, но и не успевал; одновременно, чтобы хоть во взгляде спасти то, что за дверью, я смотрел в замочную скважину — и проваливался в нее, летел в пространстве, где множились другие двери, ставни, ворота, калитки, люки, крышки колодцев. Там закрывалось все, что могло закрываться — секретеры, шкатулки с письмами, почтовые ящики, сейфы, дверцы печей, блокноты, школьные тетради, альбомы марок; весь мир, казалось, складывался, как одна большая книга, которую должно обить железными полосами, повесить на нее замок и положить под спуд.
Там, за каждой дверью, умирали оставленные увезенными в эшелоне людьми вещи; трескались стекла очков, выгибались тонкие проволочные дужки пенсне, черными раковыми пятнами сходила амальгама с зеркал, бледнели, растворялись видения лиц, некогда отражавшихся в этих зеркалах, отслаивались от стен обои, слой за слоем скручиваясь в бумажные струпья; разъедая пробки, испарялся йод из флакончиков темно-желтого стекла, истлевали приводные ремни швейных машин, крошился графит карандашей, надламывались патефонные иглы, черным порошком осыпались грампластинки; дерево и цемент исторгали из себя гвозди и шурупы, рассыхался клей, скрепляющий листы фотоальбомов, рассыхались резинки в сопревшем белье, выпадали пуговицы с одежды, вылезал мех воротников; стачивался шрифт печатных машинок, лопались струны пианино, западали их клавиши и педали, а со страниц, в которые, как кровь, въелась ржа от металлических скрепок, с выцветающими чернилами отлетал легкий дух рукописных букв.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



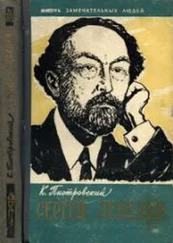

![Сергей Лукьяненко - Предел [litres]](/books/384448/sergej-lukyanenko-predel-litres-thumb.webp)