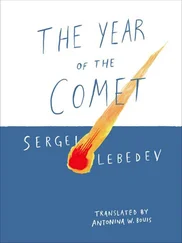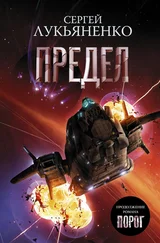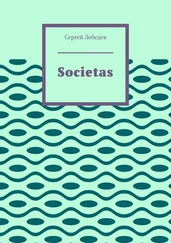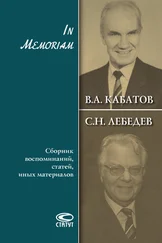Второй дед говорил с обидой на яблони, обидой на законы природы, согласно которым старому дереву невозможно укорениться на новом месте; потом стал говорить о севере, о нересте рыбы, идущей из океана, о том, что весь мир для нее становится сетью рыбака, и она стремится прорваться через сети, тони, верши, пробиться через пороги, преодолеть силу встречного течения, и так мощно ее движение, что она прорывается — но прорывается в смерть, гибнет, произведя потомство, будто бы существуют те препятствия, которые нельзя превозмочь, не примирившись заранее с будущей гибелью.
Но заметим — по речи Второго деда нельзя было понять, сочувствует ли он яблоням, гибнущей в сетях рыбе; то были отзвуки каких-то его мыслей о себе. Он что-то задумал и теперь пытался расположить моих родных к своему замыслу, не называя самого замысла. Он почти не успевал за собственной речью, он слишком долго, может быть, десятилетия решал что-то, и теперь энергия этих подспудных размышлений, высвободившись, выхлестывала из него, а он только успевал ставить на ее пути плотину за плотиной, менять русло, разделять на протоки, облекать масками и иносказаниями, чтобы нечто, давно сказанное про себя очень прямо и ясно, не прозвучало в этой прямоте.
Впрочем, все это слушалось и слышалось иначе; собравшиеся за семейным столом чувствовали, что Второй дед ищет какие-то подступы к тому, чтобы разрешить всеобщее многодневное напряжение, трактовали его речь так, будто он говорил не о себе, а исключительно о ситуации, к которой оказался причастен. Переставшие плодоносить, вымерзшие яблони, рыба, погибающая, выметав икру — что-то смутно брезжило в этом, и было непонятно, на какую чашу весов ложатся слова Второго деда. Но вдруг он, опамятовавшись, круто развернул разговор: к всеобщему изумлению, он заговорил, как бы вдруг обнаружив все невысказанные опасения — и с ходу их отбросив. Он сказал, что обязательно нужно рожать, медицина теперь хороша, а врачи напрасно перестраховываются — и стал перечислять случаи родов, когда младенцы появлялись на свет в трамвайном вагоне, ламповой комнате шахты, на кукурузном поле, в среднеазиатской степи у космодрома, в булочной, в кресле у стоматолога, в бомбоубежище. Более внимательный слушатель понял бы, что Второй дед выхватывает эти случаи из воздуха, берет место действия либо из знакомой ему жизни, либо из газет, но он настолько переполнил, перенаселил комнату этими внезапно народившимися младенцами, бесконечными спазмами родовых схваток, что внимание слушавших расфокусировалось. А Второй дед уже обещал устроить мать в самую лучшую больницу, в закрытую ведомственную клинику, обещал, что все пройдет в наилучшем виде, будто сам был акушером; он говорил о себе, о собственной бездетности — я сам на себе заканчиваюсь, и нет мне продолжения — и столь упорно просил, умолял рожать, обязательно рожать, ничего не бояться, что никому в голову не пришло: он просит — для себя.
С этого разговора в семье установилось, что рожать — надо; так среди людей, стоящих у истока моей жизни, появилась фигура Второго деда. Родовые схватки были очень долгими, мать измучилась мной; с каждым часом родов ей становилось все хуже, нас нужно было скорее отъединить друг от друга, освободить ее от меня, — но нельзя было; началось кровотечение, кровь не останавливалась, и как говорили потом врачи, они в какой-то момент не знали, кого спасать — мать или ребенка. Я родился отчасти по чужому слову, родился на волоске от смерти, своей и матери; то была удача, случай, но задним числом все это укрепило веру в благополучные предчувствия Второго деда.
Так Второй дед вошел в нашу семью; так — негласно — было установлено, что я его внук; через меня свершилась эта связь, через меня создалось это родство и мной впоследствии держалось. Своим словом, своей жизненной силой, воплотившейся в уверенность, Второй дед как бы откупил меня у не-существования, сделал меня — сущим, отворил мне двери; связь спасшего и спасенного, сотворившего — и сотворенного. И я был в некотором смысле отдан Второму деду; очень многие раздоры между воспитывающими происходят из-за того, кому принадлежит конечное право собственности на ребенка, и вот это право ментальной собственности, порождающее рабство более тонкое, чем отношение к человеку как к вещи, и принадлежало Второму деду.
Впрочем, в первые годы моей жизни он не спешил им пользоваться; насколько я понимаю, он самоустранился, словно взял передышку, когда основное было сделано. Вдобавок он как-то не очень жаловал младенцев, избегал даже находиться с ними в одном помещении, будто они ему были противны — агукающие, сосущие, плачущие, кричащие, не умеющие говорить; на слух — невразумительные существа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



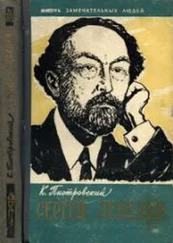

![Сергей Лукьяненко - Предел [litres]](/books/384448/sergej-lukyanenko-predel-litres-thumb.webp)