В последний день Кирилл пошел проводить меня. В метро, на эскалаторе, я обняла его и поцеловала. Вероятно, на нас смотрели, но мне было все равно: я навсегда покидала Москву.
Он стоял на платформе, в коричневом мокром пальто, нелепой шапочке и вязаных зябких перчатках. Таким я его и запомню, подумала я и, прежде чем двери захлопнулись, отвернулась и стала смотреть на кафельную плитку, к которой намертво были приделаны буквы ЖДА…
Я ждала ребенка, но так и не сказала Кириллу… впрочем, он тоже ни словом не намекнул о задуманном побеге: ни тогда, в Москве, ни позже, когда через полгода с оказией передал мне в Рим письмо, где рассказывал про московскую жизнь с ее медленно, словно цементный раствор, затвердевающим отчаянием. Я ничего не написала в ответ – пришлось бы рассказать, как я, расставшись с Гольдбергом, уехавшим в Израиль, уже полгода живу в Риме одна и жду – не то пока какая-нибудь страна примет меня, не то пока Алекс по явится на свет.
Я ничего не написала Кириллу – мне казалось, ему будет невыносимо знать, что он никогда не увидит сына.
В конце концов Алекс родился в Америке, по праву рождения получив то, чего миллионы иммигрантов добиваются годами, а два года спустя бежал из Союза Кирилл – через Югославию и, кажется, Лондон. В какой-то газете я прочитала интервью: как и многие русские, он ругал Америку за мягкость и призывал к крестовому походу против коммунизма. Иногда я представляю, что Рейган – или кто-то из его консультантов – в самом деле услышал этот призыв… Даже если так, Кирилл об этом не узнал: через год после побега он повесился в маленькой квартирке в Бруклине.
Я не написала ему и не пыталась увидеться. Наверно, я старалась стать нормальной американкой, забыть обо всем, что осталось в России. После перестройки брат звал вернуться: он как раз вошел в команду Гайдара и переехал в Москву из Питера, где в свое время скрылся от неприятностей, вызванных моим отъездом. Я отказалась – и не жалею.
До сих пор я рада, что Алекс почти не говорит по-русски, рада, что он женился на простой американской девушке, благодаря которой у меня, кроме маленького Бена, есть тринадцатилетний чернокожий Джонни, как бы еще один мой внук.
Я рада, что Алекс стал американцем, но Бену читаю книжку по-русски. Это странная книжка про потоп в детской. Две куклы и плюшевый медведь спасаются на маленькой кроватке с балдахином. Волны несут их по комнате, и они смотрят на кубики с буквами, плавающие где-то неподалеку. Буквы никак не складываются в слова, потом появляется страшная крыса, которая хочет съесть куклу, но медведь героически побеждает, оторвав от кровати балдахин и накинув на голову голодному грызуну. В финале волны выносят беженцев в безопасное место, где им и сухо, и тепло.
Эту сказку в 1932 году написал в Шанхае дед Кирилла, прапрадед Бена. Мой внук, как и свойственно ребенку, воспринимает все буквально, но я хорошо понимаю, что сказка Валентина Шестакова – чуть приукрашенный рассказ о русской революции и красном потопе.
– То есть для того, чтобы город был разрушен, не нужно ни революции, ни потопа? – уточняет Инга. – Все города так или иначе будут разрушены и тем самым превратятся в Великий Город? Похоже, не у истории мало инструментов – у нас мало сюжетов, которые мы готовы воспринять.
Она бы понравилась Грете, внезапно думает Клаус. Настороженная, умная, острая на язык. Ах, Грета, Грета… я ведь думал, что у нас с тобой настоящий брак, ну, знаешь, пока смерть не разлучит нас… а что получилось?
Он смотрит на Ингу и говорит:
– Сюжеты вообще не важны. И идеи не важны, и концепции. Все это – только пузыри на воде. Все куда проще: история существует. Люди рождаются и умирают. А любая попытка описать это какой-либо системой – исторической или философской – обречена. Потребовалось больше ста лет, чтобы это понять. Когда Ницше провозгласил смерть Бога, вместе с Богом умерла модель истории, устремленная к концу света, приходу Мессии, Страшному суду. Место этой модели заняли новые системы описания, в которых вместо конца света история устремляется к вымышленным утопиям – Тысячелетнему рейху, коммунизму, освобожденной сексуальности, Новому Веку, новой экономике… Принято считать, что эти утопии оборачиваются кошмаром, – но это не так, некоторые просто растворились, исчезли, позабылись. На смену Всемирной Истории, устремленной к концу света, пришла череда мелких историй о конце света, не в смысле о гибели мира, а о гибели модели будущего, которую придумали себе люди и которую реальность – я избегаю слова Бог – разрушает раз за разом. Если угодно, это бесконечная история Вавилонской башни: утописты строят в своем сознании Город Будущего, чтобы он стоял вечно, но он опять и опять разрушается до основания. И это происходит с таким постоянством, что уже невозможно отмечать смерть утопий как важное событие, – и в этом смысле падение Берлинской стены оказывается равно краху психоделической революции или лопнувшему пузырю доткомов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
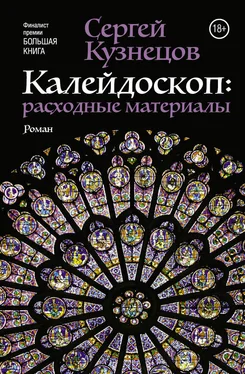






![Сергей Григоров - Калейдоскоп [СИ с издательской обожкой]](/books/394515/sergej-grigorov-kalejdoskop-si-s-izdatelskoj-obo-thumb.webp)



