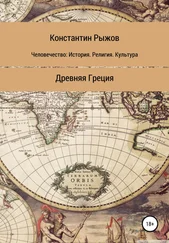— …и посмотрите на него! — услышал он возглас прокурора, обернулся, чтобы посмотреть, о ком речь, увидел, что все взгляды в зале суда устремлены на него, почувствовал застывшую на своих губах усмешку и тут же понял, что следующая фраза Фаулера неизбежно станет обличением этой усмешки.
— …пока мы сидим здесь, господа… — Он увидел, как покивали присяжные. — …этот человек, — продолжал прокурор, — взявший простую рабочую девушку, девушку с Юга, которая всего-то хотела заработать на кусок хлеба, хотела помочь семье… И он взял ее, и изнасиловал ее, и убил ее, и спрятал улики… Он, у кого хватило наглости обвинить негра, да, негра, который, обратите внимание, также в известной степени находился под его попечением… Он, одного присутствия которого в качестве гостя — я подчеркиваю это слово, джентльмены, именно гостя — в нашем штате, в нашем городе, было бы достаточно, чтобы со всем смирением и благодарностью считать себя облагодетельствованным…
«Нет, а ведь он хорош в своем деле, — подумал Франк. — Этого у него не отнять».
Фаулер тянул свою бесконечную речь, а Франк честно попытался придать своему лицу подобающее выражение.
«Смотреть в сторону, значит признавать свою вину; смотреть им в глаза, значит провоцировать их на агрессию; взгляд прямо перед собой они могут расценить как молчаливое согласие на наказание».
— …да, смутитесь, растеряйтесь, вам не помешает, — услышал он голос прокурора. — Воистину не помешает. Возможно, это станет первым проявлением чего-то человеческого, которое мы увидим в вас с начала…
«Обезьяны. Фабрика, кедровые болванки, тетушка Бесс…»
В зале висел тяжелый дух пота и табака. Воздух был неподвижен, как камень. Слова прокурора падали медленно и тяжело, одно за другим. Франк сидел, как затравленное животное.
«Будь он невиновен, он бы сейчас просто встал и убил прокурора на месте, — подумал один из репортеров. — Любой человек так бы и поступил. Я поступил бы именно так».
ДЖИМ
Один шаг, затем другой. Франк сидел в зале суда и верил, как верила вся его семья, в некий скрытый пока план, или особую компетентность, или стратегию, или талант, которые в конце обязательно откроют всем глаза на дикую, чудовищную ложь, которой, по сути, являлся весь этот процесс.
Но день проходил за днем, они спорили о часах и минутах, когда он вышел из дома, о личности Мальчика на Велосипеде, о том, когда именно он разговаривал с миссис Брин и что он ей говорил про парад.
А Франк сидел там и думал: «Да. Скверно. Бессмысленно. В каждый отдельно взятый момент суть дела игнорируется, и в результате присяжные смотрят на меня как на чудовище. А я должен сидеть здесь и наблюдать за свершением правосудия. Ибо есть тут некая последовательность, некая ритуальная пытка, от которой Господь, по милости Своей, ограждал меня прежде. И если мне суждено пройти через этот процесс, я пройду через него, как многие другие несправедливо обвиненные прошли до меня. Я ничем не лучше. И если это на самом деле некая инициация, если это обряд, позволяющий открыть в себе мужество, то я постараюсь воспринять его именно так».
Здесь его мысли начали крутиться вокруг темы «американизма». Он начал искать и находить удовольствие в чувстве единения с судьей и обвинителями, ибо все они были связаны с понятием американизма. Все они были объединены неминуемо искаженной, но все-таки попыткой добраться до истины посредством формальных процедур.
«Если я перестану так думать, то сойду с ума», — сказал он себе.
И он упорно придерживался такой точки зрения, день за днем. И всеми силами боролся с желанием взглянуть на часы. А прокурор тем временем твердил, указывая на него: «Вот оно сидит, чудовище. Посмотрите на него: он невозмутим. Ни скорби, ни других чувств. Ни намека на раскаяние или стыд. Он едва ли вообще осознает трагедию, причиной которой стал».
И Франк поворачивался к присяжным и видел, как они бессознательно кивают головами в знак согласия. Как они поглощены тем, что он про себя называл жаждой добродетели.
Они смотрели на него с отвращением, и чем дольше тянулся суд, тем сильнее было это отвращение; хуже того, они явно поздравляли себя с тем, что способны на время волевым усилием отрешиться от этого чувства.
Они убивали его.
А как им нравился Джим и его показания.
— Да не-a, да разве ж я…
— Вы писали эту записку?
— Да не-а… Да мог б я писать, разве ж работал бы на фабрике. Хотя я-то не прочь…
Здесь Франк повернулся и увидел, как и ожидал, что присяжные кивали. Им нравилось смотреть, как Джим на их глазах создает образ Счастливого раба, и они кивали, сначала в предвкушении, а потом одобрительно, наблюдая этот ритуал демонстрации покорности.
Читать дальше
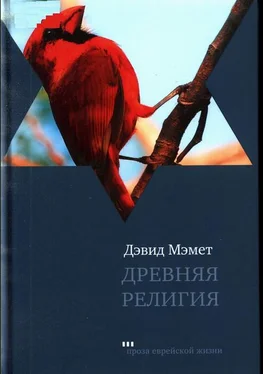


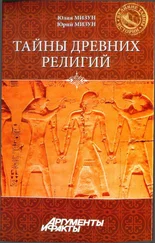





![Дэвид Мэмет - О режиссуре фильма [litres]](/books/438643/devid-memet-o-rezhissure-filma-litres-thumb.webp)