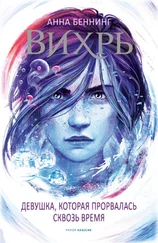Ощущение это особенно сильно в «Поездах, идущих в Мадрас».
«Весь облик оставлял впечатление незавершенности, половинчатости или еще чего-то, трудно поддающегося определению, во всяком случае, чего-то скрытого, нездорового, греховного» — так рисует Табукки своего героя, доказывая, что это не просто художественный образ, а своеобразная фиксация местоположения господина Петера на его космическом пути (он «еще не вступил в круг жизненного обновления»).
Закончу эту мысль словами самого Табукки: «Возможно, все это лишь игра воображения». Даже если отвергнуть всю мистику рассказа (а ее наличие для меня бесспорно), то останется пусть очень небольшое, но зато слепящее своей яркостью стеклышко мозаики под названием «Индия», представляющее для путешественника своеобразный аварийный набор, а если буквально — снаряжение для выживания в пути («а travel survival kit»).
Во всех рассказах этого писателя место действия обозначено предельно четко: Африка, Индия, Португалия, Италия, Аргентина. Однако это далеко не главное. Материк Именноздесь, по Табукки, — это «простор для души», где «каждый испытывает ощущение оторванности, удаленности даже от себя самого» и где властвуют «тревога, униженность, тоска».
Учителю снится полупустой город. Полупусты и люди, живущие полужизнью. Все их жесты незаконченны. Слова они произносят только наполовину. У кого-то недостает головы, у кого-то — ног. Люди неподвижно сидят в машинах, раздраженно сигналя, хотя впереди — никого. Человек, стоящий в полубудке с половиной телефона, пытается кому-то дозвониться. Но нужный ему номер — в другой половине мира.
Стефано Бенни («Комики, напуганные воины»)
Линии собственной жизни мы во многом проводим все же сами. Веруя в эту аксиому, надеюсь, меня простят за еще одно нарушение алфавита, и перехожу к Джанни Челати.
«Думайте не о словах, не думайте словами», — гласит восточная мудрость. Знакомо это изречение писателю или нет — не берусь судить: сила духовной энергии, которую неизменно заключает в себе афоризм, такова, что без труда охватывает время и пространство, материализуясь в самых неожиданных обстоятельствах. Рассказы Джанни Челати — наглядное тому подтверждение.
В нашей обыденности мы чаще всего (разумеется, не отдавая себе в том отчета) живем согласно этому наставлению. Поразмыслив целенаправленно, можно было бы сложить гигантский ряд слов и их сочетаний, произносимых без малейшей мысли о том, сколь огромная пропасть разверзается при этом в привычной трехмерности. Один наглядный пример: его (ее) словно подменили — спокойно констатируя, или шутя, или с легкой иронией мы пробрасываем эту оценку и только потом — и то не всегда — начинаем подыскивать к ней иллюстрации-доказательства.
Герой рассказа Челати носит странное и непривычное для итальянца имя Баратто. Одно из значений этого слова, будь оно написано с маленькой буквы, и есть «подмена». Случайность? Безусловно, нет. Структура и психологический характер отношений Баратто с окружающим миром так тщательно продуманы, что не оставляют места для сомнений: на каждом шагу, порой незаметно для многих, то и дело происходит подмена одного человека другим, и — что самое удивительное! — это зачастую не создает никаких неудобств для самого субъекта подобных превращений.
Баратто — обычный учитель физкультуры. Как все (вот еще одна из привычных «банальностей» затертого бездумьем языка). Однажды Баратто «почувствовал, что мысли вдруг улетучились из его головы, после чего он надолго перестал разговаривать». Правда, уточняет писатель, бегство мыслей не привело к тому, что его герой вообще перестал думать. «Он просто выкинул из головы навязчивые идеи. Когда он встречается с кем-то, он знает, что надо поздороваться за руку или кивнуть, знает, что, когда к нему обращаются, надо либо покачать головой, либо улыбнуться. Впрочем, подобные вещи и не требуют собственных мыслей, тут вполне сгодятся и чужие. Так вот, при встречах он либо улыбается, если есть повод, либо хмурится по мере необходимости, а иногда, чтоб доставить собеседнику удовольствие, удивленно приподнимает брови. А ежели мысли собеседника ему чужды, то он просто отворачивается».
В мире, где все оценивается словами, подобное превращение не может быть оценено иначе как болезнь. Робкие гипотезы-исключения лишь подтверждают всеобщий характер закона. «Шутка ли — человек молчит, а вдруг он и не соображает ничего? Такой все что угодно может выкинуть!»
Читать дальше
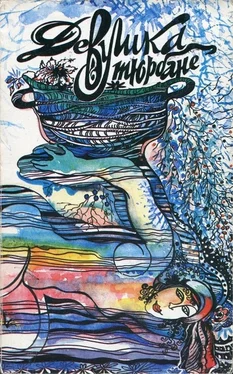

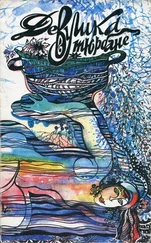
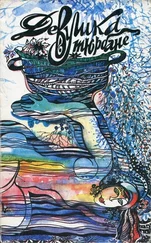
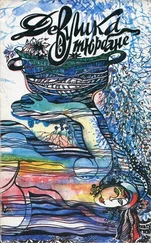

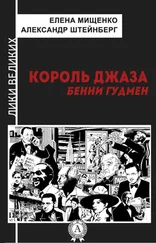
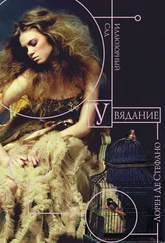
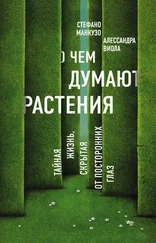
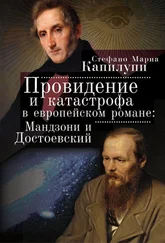
![Анна Беннинг - Девушка, которая прорвалась сквозь время [litres]](/books/431728/anna-benning-devushka-kotoraya-prorvalas-skvoz-vr-thumb.webp)