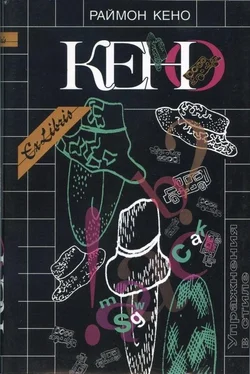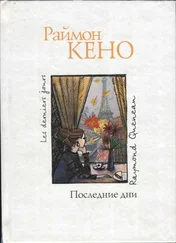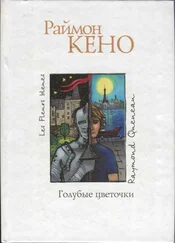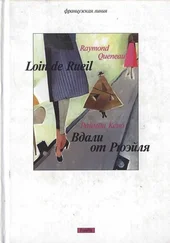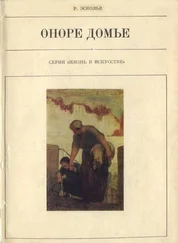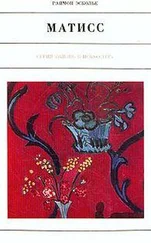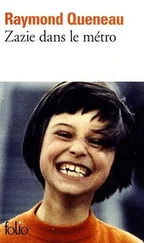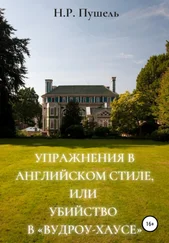Таким образом, эксперимент Кено вписывается в классическую традицию; все его творчество, — как замечает Ролан Барт, — «слипается с литературным мифом», а его приемы, «бесчисленные формы раздвоения» являются «точками разочарования (...), которые составляли славу традиционной риторики» [109]. Слова «разочарование» и «раздвоение» как нельзя лучше определяют характер письма Кено: повторение и тщетное ожидание единения возведено в принцип. Искусство повтора затрагивает текст на всех уровнях. Репетитивная речь отличает многих персонажей Кено. «Есть фразы, которые повторяются по-дурацки» [110]— замечает персонаж «Воскресенья жизни», не замечая, что он говорит прежде всего о себе самом. Постоянно повторяющиеся слова и фразы — не только фон романов Кено: чаще всего повторение происходит в сценах, где эмоции персонажей достигают критической отметки. Но повтор еще и по-разному характеризует персонажей. Акцентирующие повторы активных персонажей разрушают стереотипы языка, чтобы его оживить, как, например, лейтмотив Зази: «В жопу [ее, их...]» и попугая Зеленца: «Ты говоришь, говоришь, и это все, что ты можешь» в «Зази в метро» или навязчивая реплика Каллинена «Мне на этих англичан насрать!» из «С ними по-хорошему нельзя». В «Интимном дневнике» постоянно появляется двусмысленная фраза «Держитесь покрепче за поручень», которая выражает растерянность и подчеркивает сексуальную озабоченность героини. С другой стороны, второстепенные персонажи поражены афазией, которая не дает им возможности полноправно участвовать в рассказываемой истории. Так, восторженная приговорка блаженного консьержа г-на Шок «У меня все зашибибись, зашибибись вовсю!» («Вдали от Рюэля») оказывается настоящим тиком языка. Речь у Кено колеблется между двумя полюсами: полное слово, осознающее свои лакуны и не устающее ставить себя под сомнение, и слово пустое, немое, застывшее раз и навсегда. Диалектика «сказать и промолчать», в рамках которой разворачивается настоящая патология заикания.
В текстах Кено повтор удваивает не только имена: Габриэль / Габриэлла, Марсель / Марселина («Зази»), Сфен / Стеф («Голубые цветочки»), Никомед / Никодем («Жди-не-Жди»), удвоены персонажи и ситуации, как, например, в «Лютой зиме». Действие романа, написанного накануне Второй мировой войны, происходит во время Первой. Это не что иное, как безрадостное повторение Великой Истории через не менее печальные повторения в малой. Повторяются ситуации: пожар универмага и сгоревшая г-жа Леамо, крушение корабля и утонувший сын г-жи Дютертр... В многообразии ситуаций, происхождение или пересечение которых — смерть или неудача, просматривается определенная симметрия. Дата пожара универмага и смерти матери — точка отсчета несчастий главного героя (одного из братьев Леамо, ставших вдовцами и сиротами в один день) и точка отсчета самого романа — совпадает с датой рождения самого автора. В «Голубых цветочках» двойственность уступает место тройственности: потерявшие мать три дочки герцога д’Ож и три дочки Сидролена, три канадские туристки... Если в романах Кено набирается немало тематических и ситуативных двойников, то находится не меньшее количество «раздвоенных» героев: фигура двойственности — это еще одно напоминание о расщеплении личности. «Внутренний голос» постоянно переговаривается с Зази, Салли Мара, Валантеном Брю; закрывшись в туалете, Герти Гердл выслушивает свой «поток сознания» протяженностью в целые главы. Сидролен тайком пишет гнусности в свой адрес на собственном заборе, Турандот «включает крохотный телек, находившийся у него в черепушке», и принимается «просматривать в персональных последних известиях событие, в котором он только что поучаствовал», Сатурнен «начинает страдать потому, что существует кто-то, кто думает сзади него. По крайней мере, он так считает» [111]. Что касается Мартена-Мартена из «Последних дней», то он раздваивается в геометрической прогрессии, фактически множится, каждый раз меняя биографию и имя. Персонажи Кено, обращаясь к себе, обращаются к Другому: «Сидролен спросил у Сидролена», «Зази сказала Зази» и т. п. Но диалог между двумя половинами «я» не всегда удается, случается, что Другой не отвечает: «Всякий и каждый замолк, ожидая ответа. Дюсушель ожидал вместе с остальными. Ожидал ответа. Своего» [112].
Систематизируя принцип, Кено исследует все потенциальные возможности игры в двойственность. Принцип симметрии может быть заложен в саму структуру романа, так, например, строится повествование «Голубых цветочков», где прием — игра в симметрию и отражение — сознательно обнажается. В предисловии Кено вспоминает притчу, в которой «Чжуан-цзы снится, что он — мотылек, но, быть может, это, наоборот, мотыльку снится, что она — Чжуан-цзы? То же самое происходит и в этом романе: герцогу д’Ож снится, что он — Сидролен, но не Сидролену ли снится, что он — герцог д’Ож?» Постоянные переходы из одного сна в другой позволяют автору «расщеплять» двойного героя на протяжении всего романа, сохранять временной и смысловой разрыв до финальной сцены. Встречу, которая символически происходит на барже «Ковчег» во время потопа, можно расценивать как пробуждение и соединение двух половинок одной личности, как новое рождение и своеобразное крещение водой. Повторение, которое персонаж «Голубых цветочков» называет одним из самых пахучих цветов риторики, приводит к началу новой истории. В романе «Последние дни» повтор оказывается симметричным отображением некоторых глав. Пьеса «Мимоходом», также построенная на принципе симметрии, является полным зеркальным отражением двух актов: подобно шахматной игре, отражаются фигуры-персонажи, повторяются детали декораций, ситуации, комбинации реплик и их количество, отдельные фразы и слова. Но здесь это не приводит к встрече и единению; фигуры «расходятся» и остаются на разных «точках разочарования».
Читать дальше