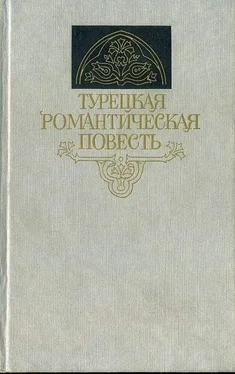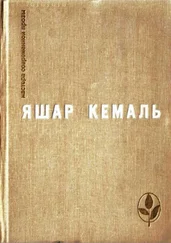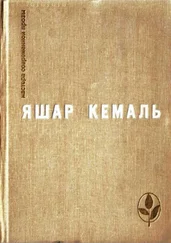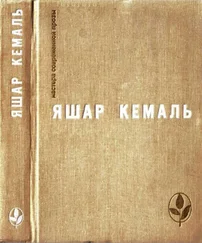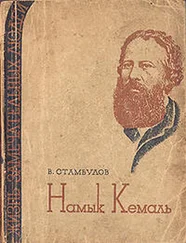Вернулся я на службу, поднес командиру полка свои подарки. Обрадовался командир.
— Спасибо, дружище, — говорит. — Ну, уж если ты так ласков к моему коню, быть тебе моим конюхом.
— Слушаюсь, командир. Пуще глаза буду беречь твоего коня.
— А по ночам в клубе будешь нести службу.
— Слушаюсь, командир.
Так и началась моя новая жизнь.
А конь был у командира полка знатный — чистокровный арабский скакун, гладкий, осанистый и с норовом. Пока песню ему не затянешь, ни за что под скребницу не встанет. Мало-помалу привык ко мне конь. Так и ходит за мной по пятам, как ягненок за овцой. Изюм у меня из рук брал. Крикну, бывало: «Сент!» — тут же прискачет. Будь хоть на цепи, порвет цепь и прибежит.
Налью ему с вечеру чистой воды, засыплю в ясли корму, запру его на конюшне, а сам — в клуб. Солдатскую форму с себя скину, клубную надену — из белого алеппского шелка, у ворота пуговицами да шитьем отделана.
В клуб офицеры вместе со своими ханым ходили. Пили там, ели, а под конец недели еще и плясали. Загудят музыканты в трубы, загрохают в барабан — джазом это называется по-ихнему, — хватают офицеры своих ханым в обнимку и давай плясать. В такой раж войдут, что до утра готовы скакать. А то вытолкнут одного на середину, он им поет или пляшет.
Мой командир тоже по вечерам туда хаживал. С дочкой придет, с женой. Сядут они на почетные места и смотрят. Сам он никогда не плясал, только на круг всегда первый выходил, чтоб молодежь за ним пошла. Сидит, на молодых любуется. Чуть кто с круга сойдет, пригорюнится в уголке, он его расшевелить старается, со своей дочкой танцевать велит.
А больше всего ценил он песни и пляски, что у нас в народе любят. Каждый раз меня петь заставлял. Затяну я, бывало, нашу протяжную, а он, сердечный, плачет. Клянусь, не вру! Вот диво-то какое! Командир полка, а плачет, как ребенок малый!
По праздникам балы устраивали. Жены офицеров приходили на балы расфуфыренные. В такие дни офицеры на выпивку, на закуску не скупились. И городские частенько с ними пировали. Одного я в толк никак не возьму: жены у них одна другой краше, а мужьям это словно бы и невдомек. У него жена в обнимку с другим скачет, а он и бровью не поведет. Совсем никакой ревности у них нет, подумать только!
Среди женщин выделялась на тех балах одна краля писаная, Мюневвер-ханым. Муж у нее судьей был. После его смерти она к отцу переехала.
На каждый бал являлась Мюневвер-ханым в новом бархатном кафтане. Волосы черной гривой пышной набок зачешет, на грудь розу приколет, глаза сурьмой подведет — у всех офицеров в башке мутится. На круг выйдет — все глаза к ней прикованы. Сигарету в руку возьмет — офицеры наперегонки со спичками к ней бегут. У меня самого при ней руки-ноги отымались. Я пою, а у ней грудь так и ходит ходуном. А в глазах тоска стоит. Такие глаза у тех бывают, кто любовь познал. Плачут глаза, только слезы не по лицу, а прямо в сердце текут, не видать их. Пою я, и вот лицо Мюневвер-ханым передо мной расплывается. Чудится мне — сидит передо мной Сенем — волосы в сорок косичек заплетены, на лбу монетки блестят, и песня моя к ней рвется… Больше всех Мюневвер-ханым мне хлопала.
В обычные дни офицеры любили порой за рюмкой посидеть, посудачить. За долгий вечер никого не пропустят, всем косточки перемоют. Кто любовницу завел, кто взятки берет — все им ведомо. Чаще всего разговор на Мюневвер-ханым сворачивал. Белье у нее из бархата… В низу живота родинка… Я только рот разевал от удивления. И откуда они все знают?
Проходит время. До конца моей службы оставалось месяца два. Вот зовет меня как-то раз мой командир и говорит:
— Мемо, беру тебя завтра с собой в деревню. Приготовь для коня праздничное седло и оголовье, что ты привез.
— Слушаюсь, командир.
— И для себя конька подбери.
— Благодарствую, командир.
— Отправимся с тобой к одному моему приятелю, шейху. Его сыновьям обрезание будут делать. Сам понимаешь, праздник, саз, зурну с собой взять надо.
— Есть, командир.
Снарядились мы в дорогу. Путь нам предстоял неблизкий, по бездорожью, и решил командир добираться до деревни с попутными купцами вниз по Тигру на плоту из надутых бурдюков. Наложили на бурдюки толстых досок, скрепили их, плот спустили на воду, на одну сторону скот, мешки с товарами погрузили, на другую — людей. Так шесть часов и плыли. Погонщики мулов командиру уважение оказали: встали, руки на животах сложили, да так за всю дорогу ни разу и не присели.
Сошли мы с плота, кругом, куда ни глянь, — один желтый песок, только Тигр по нему серебряной лентой вьется.
Читать дальше