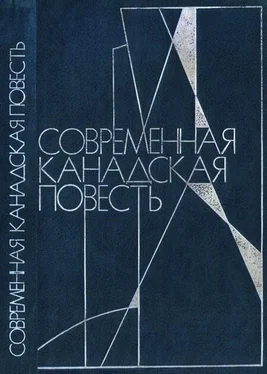— Сердце у нее бьется все слабей и слабей, — говорила мать, — что поделаешь, старость подошла…
— Да ей же всего шестьдесят восемь, — возражала я, — а она уже сбавляет скорость, словно изношенная машина. Это несправедливо!
— Все справедливо, — отвечала мать. — От смерти не уйдешь. Зато она ведет нас к будущей жизни.
Я не очень-то пеклась о бабушке Жозетте. Если меня просили приглядеть за ней, пока она дремлет в качалке во дворе, я чаще всего бросала ее и убегала играть к соседям. Иногда она останавливала качалку, бросала в мою сторону нежный взгляд и снова погружалась в свою странную дремоту, наводившую на меня страх.
— Бабушка, нельзя спать на солнце!
Она не отвечала. А потом внезапно просыпалась, бормоча извинения:
— Ах, Полина, если бы ты знала, какие диковинные сюрпризы готовит людям старость… Не след человеку стареть…
Клонящийся к концу день переходил во владения смерти.
Раньше мать частенько говорила о том, что «нужно стремиться к лучшей жизни, нужно перебраться в другой квартал, сменить обстановку», но со времени рождения Эмиля отреклась от всех мечтаний.
— Как бы избавиться от этого ребенка, я не могу его больше видеть, как бы от него избавиться…
Жаркими июльскими днями, когда Югетта и Жаку, бросая камешки в окно, приглашали меня кататься на велосипедах по Исакиевскому парку, я думала об Эмиле как о самой себе: в страхе перед смертью я была не в силах отделить его от собственного существа. Но директрисе воспитательного дома было понятно странное желание моих родителей. Чувствовалось, что эта горбатенькая старушка с ласковым взглядом готова принять Эмиля «как истинный подарок Провидения». Меня утешало сознание, что его жизнь, растворившись в душе этой женщины, обретет свой смысл, свое счастье.
— Если их любишь, малышей этих, они живут себе годами, словно ягнятки, забытые Господом на нашей земле. Посмотришь на такого со стороны — и ручками-то он не двигает, и на ногах не стоит, и не видит ничего, а полюбишь его, понянчишься с ним, он, глядишь, чему-нибудь да научится: сначала сидеть, потом потихонечку бултыхаться в бассейне, а там со временем и ходить нач «нет.
В коридоре, где-то совсем близко, слышится звук шагов, скрип тяжелого железного аппарата, который кто-то толкает перед собой.
— Входи, Андре, знакомься с Эмилем, вы будете друзьями.
Вошедший подросток бессмысленно улыбается. Монахиня подходит к нему, берет за руку и кладет его ладонь на лоб Эмиля.
— Любовь, — говорит она, поглаживая его по руке, — любовь.
Бедный Андре продолжает молчать, но в его молчании угадывается намек на какие-то слова, на какое-то подобие речи, и монахиня все понимает, глаза у нее загораются.
— Он тоже счастлив, вы видите? Их только любить нужно — и тогда все уладится.
Ничего не поделаешь, я все-таки потеряла Эмиля. Но когда я думала о нем, он представлялся мне в виде сухого ствола, окруженного свежими побегами; то была директриса воспитательного дома и ее помощницы, которые старались сделать все, чтобы его жизнь не растворилась в небытии. Вероятно, они были слишком преданы своему делу, чтобы вглядываться в суть зла, с которым им приходилось бороться. Нелегкий это труд — оберегать каждое дыхание, не дать ему угаснуть в бездне беспамятства! Эмиль больше не боялся воды. Переставал плакать, когда директриса касалась его лба. Немые и кроткие существа плавали вместе с ним в зеленоватых струях бассейна. Стоя по пояс в воде, директриса направляла чью-нибудь неловкую ручонку или ножку, благодаря бога за каждое удачное движение, за каждый намек на него.
— Сколько месяцев я бьюсь с этой лапкой, чтобы ее расшевелить… Вот так, хорошо… Еще разок… Еще… Молодцом, так и надо… Они все понимают, это не детишки, а сущие ангелы!
Радостно было думать, что директрисе есть смысл любить Эмиля, ведь он по крайней мере никогда не отплатит злом за любовь, не то что я… Сколько зла я причинила моей обожаемой Серафине.
Когда Эмиля забрали в приют, я перестала выходить из дому после семи часов вечера. Небесный свет падал в раскрытое окно, я играла с пляшущими в лучах пылинками, перебирая их, словно собственные мысли, и не отзывалась, когда мать окликала меня со двора.
— Что ты там делаешь одна, взаперти, когда все дышат воздухом?
Но я уже три недели ни с кем не разговариваю.
— Нет, мадам Пуар, это не ребенок, а чудовище какое-то. Не желает разговаривать с собственной матерью.
— Ах, мадам Аршанж, я была бы просто счастлива, если бы моя Югетта так молчала. А то ведь она трещит целый день как сорока, даже тогда не утихает, когда отец задает ей выволочку.
Читать дальше